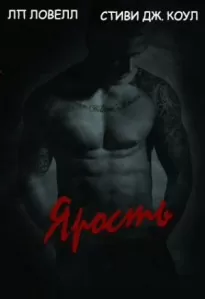Приспособление/сопротивление. Философские очерки

- Автор: Игорь Смирнов
- Жанр: Философия
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Приспособление/сопротивление. Философские очерки"
3
Интенсионал традиций. Рассмотрение традиций обязано учитывать не только объем транслируемого ими смысла, но и его содержание. Если экстенсионал традиций должен быть достаточным для того, чтобы они не сходили на нет в процессе эпохальных перемен, оказывая им сопротивление, то интенсионально преемственность нуждается в пластичности, которая позволяла бы ей приспосабливаться к развязываемым историей обновлениям мировоззрения. Неискоренимость гарантирует дискурсам субъект, который манифестирует себя в них, пусть по-разному, но тем не менее как постоянная величина. Из какой бы позиции он ни видел мир, фабрикуя историю (из посюсторонней или из потусторонней), в роли производителя дискурсов он хранит в этих своих переориентациях верность себе. Что же сообщает традициям гибкость, не позволяющую им застывать? По всей вероятности, адаптивной способностью им надлежит обладать ab initio. Она предпослана их развитию. В противном случае (если бы она была благоприобретенной) содержанием традиции была бы только оглядка в прошлое, преодолеваемое историей. Но традиции не пережиток, они действенны в настоящем, как были значимы и в прошлом. Они чреваты будущим вразрез с ностальгией, безуспешно желающей возродить status quo ante. Они отличаются своей врожденной адаптивностью от архетипов в той интерпретации, какую дал им Карл Густав Юнг.
Итак, по смысловому содержанию традиция программируется с момента происхождения включающей в себя собственное Другое, в силу чего она становится отзывчивой на Другое и вне себя, на трансформации своего контекста. Эта самоинаковость образует энергетический потенциал той референтной массы, которая являет собой объем информации, поставляемой традицией. Тогда как эйдология Платона подводит базис под понимание того, каков константный объем открытий, совершаемых в цепи познавательных актов (они всегда уводят нас за порог эмпирически данного), «Метафизика» Аристотеля, трактовавшего то, что непосредственно предстает перед наблюдателем, как актуализацию возможного, проясняет, в чем заключается содержание нашего знания о мире. Если нечто, как сказано в «Метафизике», причастно двойственному-в-себе, то оно приобщено вечному, впрочем, лишь в акцидентальном значении. Интенсионал знания, о котором оповещает нас надвременная традиция, неизбежно будет бивалентным, принадлежащим, с одной стороны, к «здесь» и «сейчас», а с другой – обладающим еще не выказавшей себя потенцией (в своей апологии традиции Элиот далеко не случайно ссылался на Аристотеля). Вопрос в том, в чем отличие возможного от актуального. В пределе (а к нему и желает приблизиться акцидентально вечная традиция) возможное разнится с явленным воочию в качестве его антитезы. Исток традиции, стало быть, не просто бивалентен, но амбивалентен, предусматривает переводимость свойств ее предмета в противоположные.
В по-своему замечательной статье «Слово в жизни и слово в поэзии» (1926) Михаил Бахтин сузил аристотелевское возможное в применении к высказываниям до понятия «социально-объективного» «подразумеваемого», которое скрыто в их основе, делая их неполными силлогизмами (энтимемами)[258]. Собственное Другое, однако, не только социологическая категория, но гораздо более широкая – логическая. Чтобы вникнуть в нее, придется снова взять за точку отсчета самосознание. Отъединяя «я»-объект от «я»-субъекта, оно задает нам готовность к перевороту любого мыследействия. Мы настроены на то, чтобы диагностировать собственное Другое где угодно по образцу превращения мыслящего субъекта в мыслимый им объект. Пресуппозицией высказывания (дискурса) бывает учет общественного мнения. Но собственное Другое всех дискурсов вместе – продукт не человека, умственно зависящего от общества, в котором он интегрирован, а субъекта как такового, не сводимого к исполняемой им социальной роли. Содержание идей состоит в том, что они квалифицируют некое множество, задавая отношение на его элементах, совокупно составляющих его объем. Потенция идей, традируемых дискурсивным путем, в том, что проведенная ими квалификация реальности допускает инверсию, что они фальсифицируемы. Принципиально опровергаемы не одни лишь научные идеи, как полагал Карл Поппер («Логика научного исследования», 1934). Не будь любая интеллектуальная традиция фальсифицируемой, она не была бы в состоянии пережить отрицания, которым наступающие эпохи подвергают предшествующие, оттесняемые ими в прошлое. Вот окончательное определение интенсионала традиций: чтобы быть долгожительницей, идея должна обладать способностью к автофальсифицированию. В традиции встроен механизм самоподрыва.
Абсолютизируя традиционность как способ жизни, архаическое общество закладывает в основу ритуала смерть, пожертвование телом. Это совмещение – посредством жертвоприношения – смысла с противосмыслом, оберегающее традицию от отрицания извне, овнутривающее его, получает новую интерпретацию, когда социокультура втягивается в историю, постепенно становящуюся все более неотступной. В Ветхом Завете, для которого будущее, прежде, в архаике, не выделявшееся в особую темпоральную зону, было бы неизвестным, если бы не существовало пророческого визионерства, инверсия переводится в эпистемологический план: в рассказе о первородном грехе человек привносит эссенцию в чистую экзистенцию, приобщаясь Божественному знанию. Оно танатологично, удерживая в себе идею жертвоприношения (Адам и Ева лишаются совечности Творцу). Собственным Другим жизни оказывается здесь знание в своем совершенстве. В этой полноте инаковости наша осведомленность может отныне как угодно диверсифицироваться: ведь каким бы ни стало Другое – оно останется собой. Понятно, почему Борис Пастернак назвал в «Охранной грамоте» (1931) Библию «записной тетрадью человечества», добавив сюда: «…таково все вековечное»[259]. Всякий гносеологический интерес, будучи тягой к иному, чем данное, возвращает нас к ветхозаветному изображению обретения человеком первознания. Разнообразие дискурсов предопределено тем, что homo historicus отграничивает сущность от существования, знание от жизни (что напрасно возмущало Гуссерля на склоне лет) и таким образом связывает перешагивание порогов, вариативность именно с когнитивной сферой. Множащее себя Другое конституирует дискурсивность и становится неустранимым из нее как составная часть, как оборотная сторона всякой утверждаемой высказыванием идейной конструкции. Отвлекаясь от проблемы традиции, можно сказать, что, неся объектное в себе, мы одержимы любознательностью постольку, поскольку сразу и партиципируем все, что ни есть, и сталкиваемся с отличием внутреннего (мыслимого) объекта от внешнего (наблюдаемого), которое подлежит снятию.
Антропологическая по своему смыслу философия прозревает в человеке нечеловеческое, то приближая его к богам (с которыми он должен, согласно «Государству» Платона, совпасть при достижении последней степени идентичности) или предсказывая его эволюционное перерождение в трансгуманное существо (Ницше), то принижая его заслуги, рисуя его колеблющимся между всем и ничем и никогда не добивающимся твердого знания (Блез Паскаль). Увиденный под историческим углом зрения, человек предстает в гегелевской философии Духа развивающимся через самоотрицание, а в фундаментальной онтологии Хайдеггера исполняет страдательную роль, отданный во власть бытию.
Литература разлагает свой смысл посредством того, что принято называть двойным кодированием, на манифестный и скрытый, выявляемый лишь герменевтическим путем, не прочитываемый непосредственно. Ее тайнопись поддается расшифровке прежде всего при том условии, что в расчет будет взят претекст интерпретируемого произведения или его социальный контекст, когда перед нами roman à clef. Проецируясь на чужое творчество, а также на внеположное искусству, на фактический материал, литературный текст фокусирует и на индивидном внимание так, что оно попадает под угрозу потери себя (своей собственности, своего места в семье или в обществе, своих убеждений и т. п.), что формирует перипетию художественного сообщения, которое подытоживается либо поражением, либо триумфом героя, испытывающего кризис.
Политический дискурс приемлет в себя собственное Другое в той мере, в какой теоретизирует о войнах и революциях. Ханна Арендт исключила их из сферы политического с тем аргументом, что они в качестве актов насилия отбрасывают человека в status naturalis[260]. Но в них человек не вовсе прекращает быть политиком. Воюя и совершая социальные перевороты, он, конечно же, намеревается разрушить общество (чужое – в войнах, свое – в революциях), ввергнуть его в коллапс, не просто в кризис, тем самым обращая конструктивность политики в деструктивность. Поражения противника на поле боя и свержения старого режима добивается, однако, не тот, кто действует по природной нужде, а тот, кто надеется, что его страна выйдет победительницей из вооруженного конфликта или переживет радикальное социальное преображение, тот, кто, короче говоря, позиционирует себя в обществе. Мы имеем дело в этих случаях с политикой, антитетичной самой себе, отменяющей себя ради своего же утверждения. Еще одним собственным Другим политики является хозяйствование, которое Аристотель вывел за ее черту, но которое позднее стало ее добычей в разного сорта политэкономических учениях. Разъясняющий, чтó есть власть человека, политический дискурс проделывает в политэкономии сальто, демонстрируя господство над нами производства товаров и рынка («незримой руки», по Адаму Смиту).
Об обратимости научной интенции, имеющей в виду безупречную объективность исследования, я уже, поторопившись, говорил, когда перечислил некоторые из лазеек, какими в науку проникает субъективность, выражающая себя прежде всего в обличье гипотез и формальных теорий, всегда недостаточных из‐за отсутствия в них самообоснования. Наука фальсифицируема не только в том смысле, какой вкладывал в это понятие Поппер (она не опровергаема в целом, ибо способна добираться до истины в последней инстанции: гравитационная постоянная и скорость света всегда будут равны себе), но преимущественно в том, что то и дело отрекается от своих принципов, жертвуя их в пользу человеческих стараний возвести свой искусственный универсум взамен естественного.
В религиозном дискурсе, если взять его ветхозаветное преломление, Бог предстает сразу и устрашающим людей (нуминозным, по Рудольфу Отто), и спасающим избранный им народ от бедствий. Бог является Моисею незримым, Он присутствует-в-отсутствии, располагаясь за краем того горизонта, которым ограничен объем человеческого видения мира, и потому не допускает поклонения своим изображениям. Но в Новом Завете Он изменяет свой потусторонний всему земному экстенсионал, к которому присовокупляется посюсторонний комплемент в лице Сына Божьего. Соответственно этому вочеловечению Логоса модифицируется – в сравнении с Отцом – содержание, которым наделяется Сын. Христос – Спаситель, как и ветхозаветный Бог, но, в отличие от Него, Он не каратель, а жертва людских происков. Знаменательно, что если к Ною, Аврааму, Моисею Бог обращается с заветами, с требованиями беспрекословного послушания себе, то Христос рассказывает притчи, нуждающиеся в дешифровке, то есть предполагающие обоюдную активность отправителя и получателя сообщений, как бы уступку адресантом своего авторского права адресату. Преданному на заклание Богочеловеку надлежит, однако, преобразовать свою содержательную характеристику в будущем, когда Он станет судьей на Страшном суде, милуя праведников и наказывая вечной мукой грешников. Христос совпадет в нуминозности с Отцом. Религиозная мысль замыкает превращения своего интенсионала возвратом к отправному в нем сочетанию полярностей, предохраняя себя в этом круговом движении от развития в не предсказанном ею с самого начала направлении. Только что приведенные примеры из области религии делают ясным отношение, в котором находятся экстенсионалы и интенсионалы дискурсивных традиций. Объем дискурсивного смысла контрарен его содержанию. Экстенсионально Другое (Сын человеческий) дополняет данное (Бога) извне, интенсионально инаковость имманентна данному (Христос внутренне предрасположен к тому, чтобы выполнить волю Отца и принести себя в жертву, Он и есть инкарнация этой воли)[261].