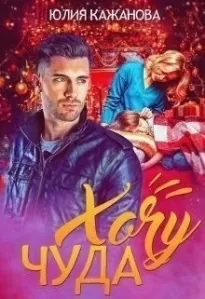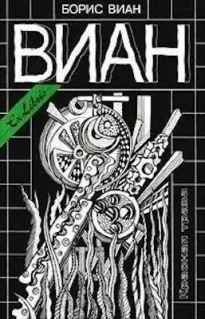Музей «Калифорния»
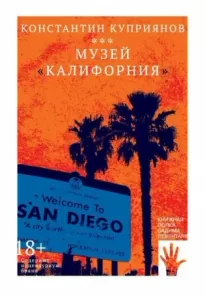
- Автор: Константин Куприянов
- Жанр: Русская современная проза / Современные российские издания
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Музей «Калифорния»"
Мы оба смотрим на тюльпаны, только-только дающие ростки, и на деток, и на траву, впервые узнающую, что есть воздух вне земли, и пройдет немного дней, все погаснет из сказанного — с кем ты тогда будешь наблюдать с балкончика очередной розовый закатец? С каким-нибудь хайкером, мувером, серфером? С каким-нибудь калифорнийцем, легким, как пушок, не имеющим за пазухой камня, чтоб ударить и, значит, не знакомым с ударом?.. Пройдет мало дней, и мягкость моя будет давно позади для тебя, и ты пойдешь снова один, в край без женской силы, без прикосновения, туда, где и дальше не превратиться тебе в мужчину?.. Кем и для чего ты там посеян?..
А мне сложно ей ответить. Я не знаю.
Уехал «чиллить» и вот дочиллился до того, что лучшими собеседниками стали редкие смеющиеся зеркала в квартире-развалюхе, в которой все совершается по пятидесятому разу. Уехал, чтобы провалиться в два приступа подряд и потерять еще одну опору для веры — будто есть запас здоровья и силы «чиллить» еще. Да нет, ничего не осталось, и, по существу, будет ли книжка или нет — с ней все ясно и решено. Решен, известен ее срок, понятен удел, как и удел любого голоса, попытки обрамить Бога в слова. Глупости, не выйдет, не та порода и не та шахта, не то погружение. Для такого погружения надо уметь полностью успокаиваться и вверяться, верить, что идешь именно по тому пути, который сам себе написал, а не сомневаться при каждой поломке: не оттого ли так дурно дышится, что я задыхаюсь без любви, без ласки жениной. Жена моя оставлена на чертеже, я изгнал ее из райского своего края, сказал: «Никогда ничего мне не говори». — Я не простил ее, хотя мы уж давно были не вместе и самое время было прощать. Мы проезжали мимо океана света: там в нижней пустыне есть такое место, где тысячи отражающих свет панелей солнечной электростанции генерируют силу и мощь для городов пустыни, и в этом свете потонуло мое подозрение, что она не верна, и там же оно пробудилось, когда ехали снова, год спустя, и я велел ей: «Уходи и никогда ничего мне не говори».
И это наш последний с ней разговор: я не могу тебе доверять, понимаешь?.. А значит, мне уж никому не довериться: ни людям, ни красоте, ни любви, которой снова одарят меня однажды. Много ли надо для радости да семьи? Говорят, доверие да вера. Что кто-то ведет тебя по этому тоннелю, по слишком хрупкому бревнышку над бездной, где справа-слева-сверху-снизу бьется пламя, и без доверия к тем, кто ведет, начерченному на правой ладони, пересекающей линией сверху вниз, нет шанса пройти. Другие, без линии, выброшены на то, чтобы упиваться вольницей, а нам, скрепившим договор тяжелым Возмездием, по тоннелю идти, и я больше не могу идти один, но и взять тебя — не возьму. Я уже стал собой, и я — это «я без тебя». Это черный подселенец, в чужой мир, на чужое побережье, по-другому не получилось. С тонной времени и пустотой в списке «близкие друзья». Нет людей и завтрашней цели, хотя мувер-серфер-кайфер на балконе, при розовом закате, всегда повторяет, что без цели лучше и не начинать, а если цель даже и глупа — например, быть автором слов и знаков, — если не она тебе начертана по чертежу, то и такая цель всяко лучше, чем бесцелие. Бесцелие хуже бездомицы, хуже прочих пустопорожних слов, которые выдумал, а завтра их забыли… или сожгли, или спародировали. Не знаю, как тебе еще описать, что я чувствую, жена, просто не знаю.
(курю третью и посыпаю голову пеплом, курить мне никак нельзя, будущий приступ научит, но я не смотрю на нее без дыма, просто не могу. Она сидит в отдалении, словно не было между нами единственного поцелуя и долгой социальной дистанции — safety, как-никак, first, — и мы копаем глубоко, мы уже ударяем по крышке подлинности, но нет сил пробить ее. Не для нас.) «А я буду чувствовать за нас обоих теперь, не переживай», — ласково, приветливо предлагает, и я наперекор только что ей брошенного узнаю свою девочку, свою, для меня посеянную в этом тоннеле без огня освещающего, но полет к ней длится лишь некоторое время… И вот вновь, словно не было прояснения в свинцовом небе, я на дне Долины смерти, там, где приходится признать, что Бог любит меня, а я не готов довериться даже своей жене.
Спазм, и время останавливается. Стоит время, будто мы его обуздали, и вокруг замер аэропорт, дожидается, будто в кино: сейчас я снова скроюсь за углом, наблюдающей за мной девочки не станет, птица унесет меня с легкостью через полмира, сбросит на побережье, где я не нужен, и кости собираешь понапрасну еще шесть лет, и тает срок, здоровье, надежда, а девочка смиренно ждет, пока лето не желает превратиться хоть во что-нибудь:
«Я буду ждать за нас обоих. Как терпеливо ждут прилива песчаные черепашки-младенцы, чтобы попасть в воду, так я буду ждать утра и накатывающей волны, которая вернет тебя в мои оплетающие объятия. Верь и люби, а уж остальное я протерплю за нас обоих, я буду ждать. Я буду ждать. Это не щедро, о чем ты? — это обычно: ты ждал, и я теперь села ждать. Самолет твой давно улетел, и темнеет, и проходит жизнь, и самолеты делаются не нужны, и гасят свет в аэропорту, бредет бригада уборщиков и не замечает меня, калачиком свернувшуюся на холодных креслах, под платками-одеялами, и соскребают с ненужного аэропортного пола жвачки и чиркаши ботиночные, и все превращают в чистоту, в несуществование, пока я жду. А потом они сносят его…
Это доля моя, моего рода, моей с тобой семьи — ждать. Сперва ты ждал, пока я появлюсь, теперь я жду, пока ты появишься. В том же аэропорту, в краю смыслов, в царстве значений, слов, букв, энергий, Силы, в домене Возмездия. Я жду. Просто хочу, чтоб знал ты, что я жду и не пою, не ношу паранджи, не молюсь, не делаю вид, что пишу стихи или картины, не хочу, чтобы думал ты, будто я страдаю, или плачу, или сомневаюсь, не хочу, чтоб думал, что поэзия есть в том, чтобы боль мужчины превращать в боль женщины — так просто между нами случилось, сложилось, не надо лишних смыслов искать и знаков… — я хочу, чтоб сосредоточился ты лишь на том воспоминании, когда покинешь меня, что под сердцем этим (показывает на центр смиренной груди) все еще есть пространство для плода, от тебя зачатого. Ничего не хочу, кроме того, чтоб ты знал: ждут. Есть те, кто ждет, а раз ждущие есть, ты не угас окончательно, хотя и да, ты смертен, это тяжелое познание, я понимаю…
Милый, не страшись, это действительно тяжело узнавать: я умру. Пока живы родители — это все-таки концепция. Дальше ты уж к этому вплотную приближен. Все-таки никого больше нет, защищающего тебя от небытия пустоши великой, когда нет родителей, и хотя не дай бог тебе узнать, ты узнаешь. Как я узнала на третью неделю после твоего отлета в край вечного лета, ведь умер папа, и я погрузилась в звон разбитой вечности: папы нет, и последняя преграда между мною и бывшим до меня небытием, — пропала… Следующей мне быть, а у меня так и нет от тебя сына. Значит, нет и преграды между мною и будущим небытием. Но я вынесла, я несла долго…»
Паузу используем для поцелуя в парке Горького, в цветущем летнем саду, который я запомню так, словно всюду клубились пепельные тучи и будто горы, не существовавшие вокруг Москвы, дымились пожарами, как вечно дымится летом (то есть в любой месяц) ненавистная, вечно цветущая летом Калифорния. Паузу используем, чтоб не прозвучало в весенней столице моей судьбы: «Ты никогда не вернешься, и я понимаю это, и я жду все равно — таково последнее возможное заклятие любви. И я сдалась заклятью черно-пурпурной любви!»
А калифорнийский лес не перестанет гореть, когда я вернусь на запад неизбежно через день или два. Я черный дух, но найду способ вернуться, чтобы вновь насытить пожаром новую плоть. Будет гореть во всех случаях, не перестать литься превращениям, огонь заполняет воздух смыслами, мы придумываем друг для друга легенду и сосуществуем в ней беспечно, стремительным разрядом тока запускаем течение пластов земных и копошащихся по ним жизней. Но когда конец — всему, что я знал, конец, — пропадет целый мир.
Какая у меня жизнь начнется без тебя?.. В Калифорнии будет лето, не нужно видеть прогноз погоды, чтобы знать: возвращение бывает лишь на дальний запад, на последний утес Запада, на периферию чудовищной Западной империи, в контексте которой прошедшая и будущая мои жизни в России — медитативный сон… и даже не человека, а, например, философа, — в обличье беспородной унылой псины, конечно, но таки — философа.
Кажется, я не выживу без тебя, кажется, ты так и застрянешь моей женщиной, не случившейся, но все же… огромной непереносимой занозой в сердце, книгой огненной в раскаленной голове [в попытке простить], но если что-то я и вынес из нашей затянувшейся слишком истории, так это что челюсти времени все перемелют. Радостно, с каждым шагом прочь от тебя роняю по куску прежнего сердца и становлюсь наконец-то бессердечным ведьмаком, а затем и снова чистым, невинным мальчишкой. Радостно, что с каждым шагом тело твое забываю, желание твоего тела растворяется — я уже свободен настолько, что могу рассказать: ты подарила мне это удивительное чувство с двойным дном, когда действительно любить и служить можно одновременно с желанием уничтожить. У верности есть второе дно: я пойду за тобой до края, но только потому, что на краю ты позволишь мне столкнуть тебя в пропасть, а самому позволишь остаться стоять.
Шаг за шагом я ухожу из рабства желаний, превращаюсь в зрелого, а зрелость — это последнее перед исчезновением. Значит, молчание близко. Помню, кстати, это место.
Эти лавки по искусственным холмам, вшитые в землю, в новом, переделанном, превращенном в хипстерский рай парке-музее «Музеон». И это мой две тысячи пятнадцатый, год невинности. Здесь я объявлял любимым друзьям, что покидаю их. Было так страшно и стыдно. Думал: стыжусь, что уезжаю. Думал: боюсь, что они проклянут меня. А боялся-то я только того, что будет. Ничто, кроме меня, никуда не делось из привычного им мира. Да хоть на Марс улети: таким же будет шелест электромагнитного поля, таким же останется правило меняющихся картинок на небе, даже богатство продолжит по-старому перетекать из кармана в карман. Тогда мне еще казалось, что я вернусь и найду их, например, бедными. Что я вернусь и застану двор свой обветшалым, мать свою — сошедшей с ума, а любовь всей своей жизни — потерянной и некрасивой. Не понимал законов превращений. Все остается прежним, и все изменяется сообразно моим превращениям.
Ничего не знал еще там, в парке. Смотрел из невинности на еще не созданное будущее и боялся. Страх — это то, что отделяет нас от бесчинств и счастья, и я покорный служка страха. Теперь уж позади невинное невежество, теперь окрепло безразличие зрелости, я укрепился в ужасе и незаметно растворил его, стою как вкопанный на той набережной. Как если бы заклинание вдруг сработало в материалистичном мире, и я бы вернулся — в себя, в Москву, в дом дружбы, в невинность апреля пресловутую. Даже погода, оказывается, хорошая — легкий ветерок и холодное солнце. Та же погода, что была июнем две тысячи пятнадцатого, когда я сказал им, будто актер на круглой сцене, перед амфитеатром, не допущенный до подлинного выступления, сказал: «Ребят, я уезжаю в Америку. Похоже, в Калифорнию, похоже, в последнее приграничье, похоже, навсегда. Не могу больше мириться с вечной сменой превращающихся во что-то другое сезонов, желаю, чтобы все превратилось в лето, хочу выжать и выдавить из опыта последнее, желаю исчезнуть отсюда. Если я не уеду (забавно, тогда это был твердый аргумент „за“), то не смогу уехать уже никогда, ведь мне целых двадцать шесть». А уже идет две тысячи двадцать первый, и все мы молоды и живы, и все прежние, и все безвозвратно иные.