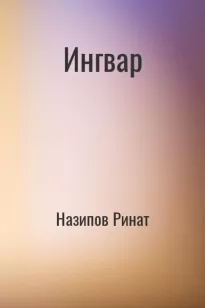Отречение
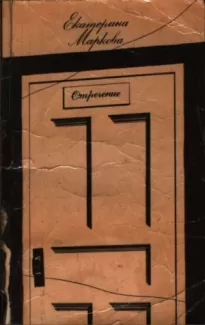
- Автор: Екатерина Маркова
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 1987
Читать книгу "Отречение"
Отречение
Я взмахнула на прощание рукой, и он в ответ улыбнулся. Неуклюже ссутулившись, он влез на подножку автобуса и через несколько секунд появился на задней площадке. Прижался лицом к стеклу, смешно расплющив нос. Автобус дернулся, и он, ударившись слегка о стекло, сморщил забавную гримасу. Я снова помахала ему. Он уезжал от меня так же нелепо, как и появился в моей жизни, — задом наперед. Вздернутое ухо шапки-ушанки еще долго качалось в заднем стекле уходящего автобуса…
Домой я добрела пешком и, уже у подъезда глянув на часы, взбежала на свой четвертый этаж. Словно дождавшись моего появления, зазвонил телефон.
— Ольга, это я. Доехал…
— Молодец. Дежурного педагога видел?
— Угу.
— Что «угу»? Видел или нет? Кто сегодня?
В трубке захрюкало, забулькало, потом наступило молчание, видно, его ладошка крепко стиснула мембрану.
— Ну, отсмеялся? Тебя там щекочет, что ли, кто-то?! Гена! Ты меня слышишь?
В трубке послышались шум, дальний сердитый голос, потом, после паузы:
— Ольга Михайловна, я вас приветствую, Олег Иванович говорит. Гена опоздал к ужину…
— Да, да, это я виновата. Но он сыт. Мы поужинали…
— Простите, минутку… Гена, отправляйся к себе, живо, — услышала я недовольный голос педагога. — Извините, Ольга Михайловна, но мне хотелось бы напомнить…
— Нет, нет, Олег Иванович, я клянусь вам, мы были с Геной в кафе. Да что же вы, неужели я не понимаю! Да он даже не знает, в каком районе я живу…
— И потом, Ольга Михайловна, я, извините, слышал, как он к вам обращается Почему просто «Ольга» и почему на «ты»?..
— Почему просто «Ольга» и почему на «ты»?.. — повторил тот же вопрос Глеб и устало взглянул на меня из-под белой шапочки, надвинутой на самые брови.
Он сидел на табуретке, опустив безвольно вдоль тела руки с натруженными, вздувшимися венами. Его серые глаза, чуть растянутые к вискам, смотрели сквозь меня отчужденно и сосредоточенно. Я уже привыкла к такому его взгляду. В эти минуты, я знала, в Глебе шла мучительная работа. Тонкие запястья его вытянутых рук вдруг дрогнули, пальцы шевельнулись, как бы подвергая сомнению какое-то движение. Он как бы проживал заново только что законченную операцию, выверял каждое принятое решение, каждую подробность.
— У тебя опять сосудик в глазу лопнул, — не отвечая на его вопрос, тихо сказала я.
Чуть заметно сдвинувшиеся брови наложили запрет на возникшее во мне желание обхватить его упрямую голову, сдернуть шапочку и прижаться губами к коротко остриженной горячей макушке.
Я вдруг вспомнила тот неистовый весенний день, когда, не в силах носить в себе больше эту ношу, я сказала Глебу, что люблю его. Лишь на миг поселилась в его внезапно еще больше раздвинувшихся к вискам глазах нежность. Он стремительным движением прижал меня к себе, и его губы, коснувшись моего уха, прошептали: «Бедная моя…»
— Бедная? Не-ет! Почему?
Мне показалось, что я ослышалась, и изо всех сил пыталась высвободить голову из его рук, прочесть в глазах другой ответ. Я чуть не расплакалась, увидев его строгий, отрешенный взгляд.
— Почему? — снова потребовала я шепотом.
Он бережно, словно я могла рассыпаться от его слов, обнял меня за плечи.
— Потому что меня не существует. Я отдал свою жизнь. Всю, до самого последнего дня. Я не принадлежу себе. И это не слова. У меня одна страсть, одна любовь, одна боль…
— Так не бывает! Это не по-человечески!
Я изо всех сил сдерживала готовые хлынуть слезы и сердилась на свой срывающийся голос.
— Как раз именно это по-человечески, — возразил Глеб, — в моем понимании, естественно. Кто-то считает иначе, живет по-другому. И это его право.
— Но ведь… ведь ты не можешь с утра до ночи… всю жизнь лечить больных детей. Так ведь и сдвинуться можно.
Вновь ошпарил меня его жесткий колючий взгляд.
— А это уже мое дело!
Слезы брызнули из моих глаз точь-в-точь как у клоуна из цирка. Я уже не пыталась сдерживаться — мне было жаль себя, Глеба, несчастных больных детей, которые отнимали его у меня. Мне было жаль весь этот мир, в котором я жила и который с такой щедростью и многоликостью выявлял свои скрытые обличья. Я уже начинала понимать, что все мои детские представления о жизни гроша ломаного не стоили. Я была как проколотый воздушный шар, из которого вместо воздуха выходило восторженное детское оцепенение перед добрым многообещающим миром. Я, наверное, деликатно замешкалась у ворот этого огромного мира. Надо было вломиться в него много раньше и сразу заявить о своих претензиях к нему и потребовать ответа — немедленного и неукоснительного. По какому праву, надо было спросить, кто-то или что-то будет наводить порядок в моей жизни, словно мой собственный выбор в моей собственной жизни ровным счетом ничего не значит, словно кому-то видней, как распорядиться моей судьбой? И еще… Смех, да и только, что тот самый Глеб, без которого я не мыслила своей жизни, появился как-то… невзначай. Мог бы появиться, а мог бы не появиться никогда… Надо было спросить, что это: просто случай или расставленная ловушка? Но, как говорится, поезд ушел, и когда я, уже вполне сформировавшаяся растяпа, упустив момент, подняла в один темно-синий вечер глаза к сверкающему россыпями звезд небу и, грозно откашлявшись, решила посягнуть на весь мир и привлечь его на скамью подсудимых, то вдруг почувствовала, как неотвратимо необъятна эта скамья мироздания и как ничтожны мои запросы. Лицо вспыхнуло, словно тысячами пощечин наградили меня надменные звезды.
— Не туда обратилась! — буркнул в ответ Глеб, когда я с юмором пыталась поведать ему о своем диалоге с вечностью.
— А… куда? В Верховный Суд? — засмеялась я.
— В себе поищи, — так же невнятно посоветовал Глеб. — И займись делом!
Он был иногда вот такой… совсем невыносимый. Он умел одной фразой убить во мне все: трепетность, восторг и, наконец, мою нежность к нему. Но это был бы не Глеб, если бы в следующую минуту он не возвращал с лихвой все назад. И мою нежность, и восторг перед ним, и то пьянящее легкое головокружение, которое вот уже год терзало меня…
…— Вы ко мне? — спросил он тогда.
И впервые мир поплыл в медленном танце.
Он стоял передо мной в своей тугой врачебной шапочке и зеленом тщательно выутюженном хирургическом костюме. Строгие уставшие глаза вопросительно глядели на меня.
— Я к вам, — подтвердила я и, уплывая от него, вдруг ощутила ликование оттого, что я пришла к нему, ждала его, что хоть так я причастна к этому измученному суровому человеку. — Я по поводу вашей больной Наташи Самсоновой…
В его глазах появился интерес, взгляд как бы вычленил меня из окружающих предметов.
— Кем вы ей приходитесь?
У него был глуховатый голос с резкими отрывистыми интонациями.
Преодолевая головокружение, я уцепилась взглядом за крошечное бурое пятно на рукаве его халата.
— Я… вообще-то… никем…
— То есть?
Колючий взгляд заставил меня оставить в покое пятно на его рукаве, снова ощутить, как плывет под ногами пол и сигналом величайшего бедствия или немыслимого счастья бьет с размаху в виски кровь.
— Я… верней, мы, студенты актерского факультета, шефствуем над детским домом… верней, интернатом, где Наташа учится…
— Верней, живет, — подсказал насмешливый голос хирурга.
Я согласно кивнула.
Бурое пятно на рукаве двоилось, троилось, четверилось, заполоняя весь зеленый рукав пляшущими точками.
— Наташа проснулась после наркоза. Пока состояние тяжелое. Звоните утром, — сухо посоветовал доктор и обернулся к женщине, которая на протяжении всего нашего разговора время от времени трогала хирурга за плечо.
Как сквозь сон слышала я ее настырный визгливый голос. Этот голос что-то требовал от хирурга, что-то сулил, чем-то угрожал. А я стояла оцепенев, точно ноги мои были приклеены к полу.
Досада на лице врача сменилась готовым вот-вот прорваться гневом.
— Я вам повторяю — условия для всех послеоперационных детей равны. И не обращайтесь ко мне с подобными предложениями — не по адресу!
Яркие пятна румянца выступили на скулах врача. Резко повернувшись, он шагнул к двери в отделение, а потом обернулся ко мне и сказал своим отрывистым голосом:
— Девочке можете передать лимоны и морс.
Я еще долго смотрела на белую дверь, за которой скрылся Глеб. Глеб Евгеньевич, заведующий хирургическим отделением, как сообщили мне в справочном.
— Я же не виновата, что мой ребенок не привык к таким условиям. А ваш? У вас девочка? — вывел меня из оцепенения тот же визгливый голос.
Миловидная женщина с надменным лицом требовала от меня ответа.
— Моя девочка… ко всему привыкла.
Голос мой прозвучал с такой горечью, что женщина растерянно спросила, вглядываясь в мое пылающее лицо:
— То есть… как?
Я молча вышла из приемной, плотно прикрыв за собой дверь.
«Надо приготовить морс, он сказал принести морс и лимоны». «Морс и лимоны. Морс и лимоны» — стучало в висках, а я все убыстряла шаг. Я уже почти бежала по тротуару, и люди оглядывались мне вслед и, наверное, недоуменно пожимали плечами. «А ваша девочка?» «Моя девочка!..» Ей даже не снилось, этой холеной благополучной блондинке, какой жизненный опыт у худенькой моей девочки Наташи. Он сказал «морс и лимоны». Девочке Наташе нужны лимоны и морс. Остальное не важно… Вот только почему-то глаза застилает от нежности к этому чужому и откуда-то знакомому… усталому человеку с жестким выражением глаз и нервными кистями рук в набухших синих прожилках. Ах, как славно, что Наташа в этих руках! Повезло… А такое везение равноценно спасению жизни. Он сказал «морс и лимоны»… и еще он сказал «состояние тяжелое»… но ведь после операции так всегда говорят — «состояние тяжелое». Морс и лимоны. Она выживет. Вернется… домой, в свой четырехэтажный блочный дом, влезет в свое застиранное байковое платье, которому, похоже, сносу нет, будет снова ревниво оберегать свою нерастраченную детскую любовь для невероятно сказочного появления мамы. Они ведь все ждут маму. Вопреки знанию о том, что мама отдала ее, его, их, отреклась навсегда. Что ж, это и взрослому, циничному уму непостижимо, а дети… Тем самозабвенней ждут, чем лучше знают все. Главное — морс и лимоны. И пусть она вырастет доброй, красивой, верной, нарожает кучу детей, и на всем белом свете не будет матери преданней и заботливей моей девочки Наташи. И так хочется прижаться лбом к его сильным рукам в прожилках и рассказать о том, как невозможно ходить туда, к этим детям, как невозможно не ходить…
«Морс и лимоны!»
…Глеб вздрогнул, с удивлением вскинул голову.
— Извини, не понял.
Я виновато улыбнулась.
— Я ничего не говорила.
— Ну, пусть будет так…
— Я просто подумала… помнишь… вспомнила, как ты лимон съел прямо с кожурой.
Глеб устало улыбнулся.
…— Вот лимоны и морс, как вы велели.
Тогда он тоже внезапно улыбнулся. Эта улыбка застала меня врасплох, я совсем не была готова к ее появлению. Словно внутри этого человека зажгли свет, так вдруг вспыхнули и засветились ласково его глаза, так преобразилось его худое лицо.
— Сколько же здесь лимонов? Пять килограммов?