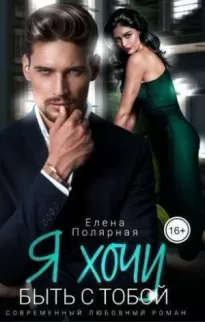Сладкая жизнь

- Автор: Александр Генис
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 2004
Читать книгу "Сладкая жизнь"
Письма из Германии
Елку у нас в Риге, когда я был маленьким, украшали немецкими игрушками. Их делают из невесомого стекла и присыпают крошкой, похожей на сахарную пудру. Лесная избушка, один-два шарика, сосулька — и елка приобретает торжественный и новогодний облик. Все остальное — уже излишество.
В немецких игрушках, как в сушеных грибах, дух германского уюта содержится в исключительно концентрированном виде. И вот мне довелось побывать в крохотном городке Роттенбург-на-Тауберге, откуда Германия рассылает по всему миру экстракты своей сказочной романтики. Даже в разгар лета в Роттенбурге идет бойкая торговля рождественским товаром — стеклянными звездами, восковыми свечами и, конечно, щелкунчиками. Каждый из двенадцати тысяч жителей этого городка мог бы, как Урфин Джюс, обзавестись армией сосновых солдат-щелкунчиков. А сопровождали бы это воинство стаи деревянных кукушек из знаменитых шварцвальдских ходиков.
Игрушечное королевство Роттенбурга прекрасно представлял блестящий от лака, молодцеватый щелкунчик с немного грустной мордочкой. В нем счастливо сочеталась воинственная челюсть с безобидными функциями, простодушный крестьянский юмор с аристократическим изяществом мундира. Воспетый Гофманом и Чайковским, щелкунчик — связующее звено традиционно русского Нового года и патриархального немецкого Рождества.
Самые счастливые среди городов — посредственные. Есть в Европе такие уголки, которые никогда не знали столичного шума. Никто не стремился превратить их в Третий Рим, Северные Афины или Восточную Венецию. Их никто толком не завоевывал, никто особенно и не защищал. До них вообще никому не было дела. И это прозябание обернулось великим благом, потому что посредственности дали развиваться по своему желанию. А главное желание посредственности — не развиваться. Так на теле Германии образовалось чудо — Роттенбург-на-Тауберге. Город, который остался таким, каким его построили много веков назад.
Понятно, что может быть прекрасен собор, дворец, крепость. Но в наше время они красивы сами по себе. В век, когда стиль утерян, только его огрызки — правда, величественные — могут донести идею общего. Но Роттенбург — город, которому время не помешало сохранить стиль целиком. Здесь нет великих соборов готики, дворцов Ренессанса, церквей барокко. Здесь — только стиль. Домики с узкими фасадами, церковь с изрядной колокольней, крепостная стена — у кого же тогда не было крепостной стены, да рыночная площадь с деловитым фонтаном. Вот и все. Скромный городок, построенный так, чтобы здесь было вкусно жить и не страшно умереть.
В Роттенбурге нет геометрии. Зато есть черепица, которая не бывает одинаковой — после обжига она всегда разных оттенков, и стареет она по-разному — зеленеет, покрывается мхом или плесенью. Такая крыша прихотлива, как луг или лес, и повинуется одному Богу.
И еще — скат черепичной крыши должен быть сделан под острым углом, чтобы дождевая вода легко сливалась. И никогда не найти двух крыш, одинаково островерхих. Поэтому если смотреть сверху — с колокольни, ратуши или крепостной стены, — то море крыш сливается в картину, полную контрастных теней, полутонов, ярких пятен. Пейзаж опять-таки прихотливый и причудливый, то есть, говоря по-немецки, романтический.
Не менее роттенбургской черепицы прекрасны бурые с прозеленью старинные кирпичи.
У моих любимых «малых голландцев» есть полотна, на которых тщательно выписанная кирпичная кладка занимает половину картины. Наверное, и они видели в феномене кирпича счастливую гармонию геометрии с анархией, порядка со стихией.
Гармония эта исключительно подходит к бюргерской душе. Она умеренна и постоянна, даже нетленна, потому что несет в себе здоровое мещанское начало. Поэтому и шедевр, в котором она удачнее всего воплотилась, тоже бюргерский. Это купеческий склад, рыночный амбар. Простое сооружение, исчерпывающееся черепичной крышей и кирпичными стенами. Чистота идеи соблюдена благодаря функциональной необходимости. В таком виде амбары пережили века, приобретая с ними замечательную замшелость, чудную патину старости, которую японцы называют печальным очарованием вещей.
Если бы Феллини снимал фильм о Германии, он мог бы начать с панорамы мужской уборной. Такой, какой может похвалиться знаменитая мюнхенская пивная «Хофброй». Издалека шеренга писсуаров похожа на клавиатуру гигантского рояля. И обобщенный немец своей бодрой струей заставляет журчать инструмент в ритме марша.
Ярко горит свет в германской пивной. Люди сидят широко, развалясь. Сюда ведь не забегают на пять минут. Да и одолеть литровую кружку надо умеючи — просунуть большой палец в ручку, а всей ладонью обнять стеклянного мастодонта, как любимую и законно принадлежащую тебе женщину. Любо смотреть, как лихо с этим справляются и спортивные студенты, и плечистые матроны, и их крепкие дети. Но по-настоящему пиво пьют только завсегдатаи. Для них — буролицых, седовласых, в болотного цвета штанишках и шляпах с пером — есть свои орудия производства: именные кружки, хранящиеся в специальных гардеробах с замочками и номерками. Эти люди уже прошли все круги рая и выбрали свой собственный здесь, в «Хофброй», где чувство локтя, где картофельные кнедлики, где музыканты, уложив арбузные животы на колени, извлекают из аккордеонов польки, похожие на марши, вальсы, неотличимые от маршей, и марши сами по себе.
Эта бодрящая атмосфера так захватывает, что иностранцы, отважившиеся посетить мюнхенскую достопримечательность, вливаются в праздник, сами того не замечая. Вот уже притоптывает американская старушка в буклях, и африканец по-баварски хлопает себя по ляжкам, и японцы повели блевать приятеля, не справившегося с германскими масштабами. Да и сам я, поддавшись порыву, поддержал веселье бодрым «ур-ра!».
Все вздрогнуло за нашим дубовым столом. Болотный сторожил дружелюбно принял заслуженную кружку и членораздельно произнес: «Ста-лин-град».
…Да, это не Америка. Тут некому объяснять, что медведи редко заходят на Красную площадь.
Немцы на Руси представляли Европу. «Славяне» — это те, у кого есть слово, кто умеет говорить. «Немцы» — немые. Без языка, иностранцы. И все равно мы похожи. Потому и воевать с немцем можно, что свой человек. И выпить. И подраться. И в лицах у них что-то неправильное — то нос, то уши, то некоторая скособоченность.
В чудном мюнхенском музее «Альте пинакотек» висят десятки старинных немецких полотен, а их прототипы и сегодня пьют пиво в «Хофброй».
Итальянская живопись отпочковалась от фрески. Немцы же шли путем книжного червя — от миниатюры, иллюстрации, сюжета. У них все мелкое, тщательное, скрупулезное. Еще современники поражались выписанным по одному волоскам на «Автопортрете» Дюрера. И в этом характер прекрасной немецкой музы, которая не парит, а бредет.
Дюрер пишет оскорбленную Лукрецию, но, несмотря на порыв сочувствия, не забывает изобразить ночной горшок у нее под кроватью. В этой замечательной будничности — та же поэзия, что и в черепичном раю Роттенбурга.
У германского — в отличие от итальянского — художника нет ничего особо красивого. Он все-таки бюргер. Но дело свое знает. Если на полотне отсечение головы, то из шеи будет хлестать три струи крови — столько, сколько положено. Им лучше знать.
Эта деловитая жестокость пронизывает всю северную живопись. На алтарном триптихе Гольбейна злодеи стреляют в святого Себастьяна сантиметров с десяти — чтобы не промахнуться. И относятся они к делу спокойно, без экзальтации. Особенно тот, который перезаряжает арбалет, по-детски держа стрелу зубами. И земляника на переднем плане. Сочная! Ей-то что.
У каждого народа — свой звездный час. Момент, когда его культура собирается в наиболее выпуклый и завершенный образец. У нас таким, наверное, так и останется Пушкин. У немцев — романтики. И вовсе не потому, что лучше их не было. Просто тогда, в начале XIX века, в книгах немецких романтиков собрались в фокус лучи капризного и неповоротливого германского гения. Чтобы решить центральный вопрос немецкого духа — конфликт поэта и бюргера.
Чуть ли не все германские писатели служили чиновниками. От Виланда до Шиллера. От Гете до Кафки. От письмоводителя до премьер-министра. Германия, кажется, единственная страна, где свободный художник постоянно отсиживал присутственные часы. Между прочим, служили они хорошо, и начальство было ими довольно. Гофман, например, считался знающим и исполнительным юристом. Кафка руководил департаментом и слыл специалистом по социальному страхованию. Все они ненавидели свое хлебное место и все были вынуждены за него держаться. Классический конфликт парящего в облаках Сокола с ползающим в потемках Ужом для немцев решался в самой непосредственной жизненной ситуации. Поэта загнали в контору и предоставили ему там бунтовать в неопасных для общества формах. Тут-то немцы и изобрели иронию.
В самом деле, что делать художнику в роли письмоводителя? Смеяться. Точнее, ухмыляться необидным для начальства образом.
Сперва ирония требовала от художника слишком серьезно относиться к жизни: поэт и писарь в одном лице! Затем — не придавать слишком большого значения своему творчеству: писарь и поэт! А уж потом находить что-то значительное в создавшемся положении.
Немецкий писатель вынужден был менять обличия со сказочной быстротой — не зря они так любили сказки. Ирония же, как кулисы, прикрывала лихорадочное переодевание. Потом кулисы исчезли, и остался Гофман. Который создал из самой комедии масок самостоятельный и самодостаточный мир. То волшебник, то архивариус, взад-вперед и всегда понарошку.
Крестный отец немецкой иронии Фридрих Шлегель прекрасно понимал, какую перспективную штуку он выдумал: «В иронии все должно быть шуткой и все всерьез, все простодушно откровенным и все глубоко притворным. Нужно считать хорошим знаком, что гармонические пошляки не знают, как отнестись к этому постоянному самопародированию, когда нужно, то верить, то не верить, покамест у них не начинается головокружение».
Менялись эпохи, забывались страсти классических героев, но оставалась ирония, помогающая каждому поколению решать конфликты поэта и толпы, художника и чиновника, труда и праздности, высокого и низкого, поэзии и прозы.
Ладно там поэты. Кто в наши дни говорит стихами! Но ирония давала рецепты неуязвимости и в повседневной жизни, защищая человека от «звериной серьезности». Почему неуязвим Швейк, «богемский отпрыск немецких романтиков»? Потому что он и сам не знает, когда придуривается, когда нет.
От скольких бед нас спасает ирония, и как тяжела судьба людей, прямо взирающих на вещи.
Ирония помогла немцам найти спасительный компромисс между жизнью и идеалом. Более того, она сделала этот компромисс веселым и симпатичным. Благодаря ей романтики по-прежнему воевали с буднями за сказку — но не очень, то есть находили и в буднях кое-что приятное; В результате германские писатели научились писать одновременно и сатиру на филистеров, и идиллию об этих самых филистерах. Причем так писать, что далеко не всегда просто отличить одно от другого.