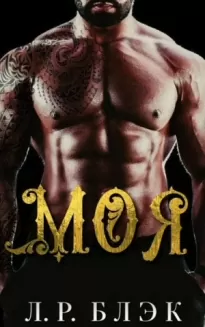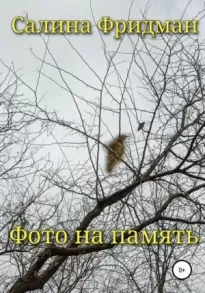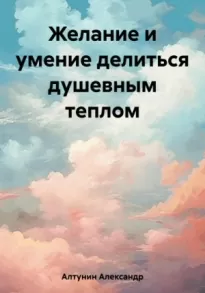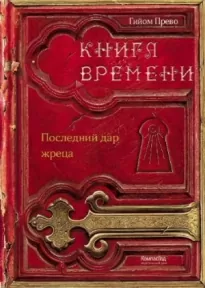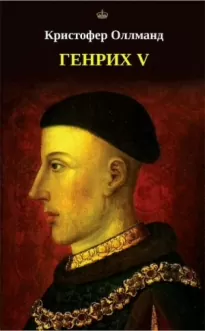Генрих фон Офтердинген

- Автор: Новалис
- Жанр: Зарубежная классическая проза
- Дата выхода: 2003
Читать книгу "Генрих фон Офтердинген"
2
В октябре 1791 г. Новалис перебирается в Лейпциг, где продолжает свои научные занятия. Не оставляя юриспруденции, он посещает лекции по математике и по естественным наукам и, как всегда, высказывает по поводу каждой из этих дисциплин оригинальные суждения, в особенности что касается истории и философии. Поэзия отступает на второй план, хотя Новалис не перестает писать стихи. В это время завязывается его дружба с Фридрихом Шлегелем, первые известия о которой датированы январем 1792 г. Фридрих Шлегель был ровесником Новалиса (старше на два месяца), но уже тогда чувствовал себя человеком нового литературного направления, эстетику и философию которого он разрабатывал. Его опыты в стихах, в прозе и в философской эссеистике не утратили своего значения и блеска до нашего времени. Для Новалиса встреча с Фридрихом Шлегелем имела решающее значение. До этого творчество для Новалиса ограничивалось внутренней жизнью. Публикация одного стихотворения, в сущности, мало что изменила в этом смысле. Шлегель вовлек Новалиса в немецкую культуру того времени, открыв ему при этом «глубокие, пленительные тайны», что признает сам Новалис: «Для меня Ты был верховным жрецом Элевсина. Благодаря Тебе я постиг небо и ад, благодаря Тебе вкусил плод с древа познания». При всех скидках на романтическое книжничество, устанавливающееся в будущем кружке йенских романтиков, речь явно идет о посвящении в некие таинства, сопряженные с грехопадением, ибо Шлегель открывает Новалису не только небо, но и ад, давая ему отведать запретный плод. Гармоническая натура Новалиса была полной противоположностью Фридриху Шлегелю, постоянно раздираемому внутренними конфликтами и кризисами, тогда как Новалис говорит о своей «вере и доверии ко всему, что во мне и вокруг меня». В общении со Шлегелем Новалис ищет острых, трагических переживаний, отсутствием которых были вызваны «Жалобы юноши», а Шлегель пытается лечить свои душевные раны метафизической ясностью Новалиса, все время волнуя ее, смущая и тревожа. Семь лет спустя, в 1799 г., Шлегель напишет Новалису: «Вообще я чувствую, что меня неразрывно привязывают к Тебе две вещи — это религия и брак». Шлегель со свойственной ему проницательностью очень точно обозначил интимные темы, которые Новалис привнес в ранний немецкий романтизм.
Нельзя не упомянуть еще одну встречу, которая произошла в мае 1795 г. В доме профессора Нитхаммера Новалис познакомился с Фридрихом Гёльдерлином. Встреча эта, к сожалению, не имела для них обоих тех последствий, которые могла бы иметь, ибо встретились натуры куда более родственные, чем, скажем, Новалис и Фридрих Шлегель. Философ Вильгельм Дильтей, тончайший исследователь немецкой культуры, справедливо писал, что Греция Гёльдерлина, выдержанная в духе новоплатонизма, была чрезвычайно родственна новалисовскому средневековью[277]. Действительно, то и другое было «вечной стариной», говоря по-новалисовски. Гёльдерлин воспринял бы сочинение Новалиса «Христианство, или Европа» с большим сочувствием и пониманием, чем друзья-романтики, озадаченные христианским универсализмом поэта-мыслителя, а Новалис расслышал бы в «Патмосе» Гёльдерлина божественное безумие, согласно Платону, истинное начало поэзии, которое современники сочли безумием клиническим. Новалис познакомился одновременно с Гёльдерлином и с Фихте, чья философия успела для него стать соблазнительнейшим и тончайшим интеллектуальным искушением.
Но за полгода до этого, 17 ноября 1794 г., в Грюнингене, в доме ротмистра Йоханна фон Рокентина, Новалис знакомится с его двенадцатилетней падчерицей Софи фон Кюн, и, как он сам впоследствии говорил, четверть часа определили всю его жизнь. Людвиг Тик сравнивал Новалиса с Данте, а Софи с Беатриче. Эта аналогия получила распространение в истории литературы. «Однако до сих пор не установлено, был ли знаком Новалис с Данте или все эти сопоставления лишь плод воображения литературоведов», — замечает И. Н. Голенищев-Кутузов[278]. И все-таки от сопоставления Новалиса с Данте трудно отказаться. При всей своей скептической иронии Генрих Гейне тоже пишет о романе «Генрих фон Офтердинген»: «Этот роман в своем нынешнем образе — лишь фрагмент большого аллегорического творения, которое, как “Божественная Комедия”, должно было прославить все земные и небесные вещи»[279]. На это можно возразить, что в творчестве и в мироощущении Новалиса принципиально отсутствует ад, без которого «Божественная Комедия» невозможна. В то же время комментаторы продолжают сопоставлять полноводную голубую реку, которая снится Генриху в конце шестой главы, и зеркальные воды, пугающие и завораживающие своим блеском в начале второй части, с Летой, текущей в Чистилище, согласно поэме Данте. У Новалиса с этой рекой тесно связана Матильда, в «Чистилище» Данте действует Мательда, чье имя исследователи истолковывают как анаграмму «ad Letam» («К Лете»)[280]. Конечно, речь может идти об архетипических или типологических совпадениях, идущих из внутреннего мира или из глубин поэтической традиции, но такие совпадения по-своему едва ли не более значительны и существенны, чем откровенные заимствования или цитаты.
Здесь дает себя знать и принципиальное расхождение в судьбах Данте и Новалиса. Если бы Данте вступил в брак с Беатриче или хотя бы обручился с ней, не было бы «Божественной Комедии» или вместо нее была бы совсем другая поэма. «О том, что Данте боготворил Беатриче, кажется, никто не спорит, а сцены, когда она посмеялась над ним и отвергла его любовь, описаны в “Новой жизни”», — читаем у Борхеса[281]. Быть может, Данте не мог простить Джемме Донати, своей жене и матери своих детей, что она не Беатриче, а быть может, если бы Беатриче стала женой Данте, она уподобилась бы Джемме Донати, которой Данте не посвятил ни одной строки. Так или иначе Данте, певец мистической любви, не был певцом брака, в отличие от Новалиса.
До нас дошло мало сведений о Софи фон Кюн (впрочем, как и о Биче Портинари). Говорят о ее необразованности, но что такое образованность или необразованность двенадцатилетней девочки? Разумеется, Софи не была вундеркиндом, в ней как будто не было ничего примечательного, и все-таки современники упоминают завораживающий взор ее темных глаз. Во всяком случае Софи производила впечатление не только на двадцатидвухлетнего Фридриха фон Харденберга. В судьбе заболевшей Софи принимает участие Гёте. Суровый отец Новалиса сначала противится этому браку, но Софи быстро завоевывает и его. Софи очаровывает своей естественностью, своей пробуждающейся женственностью. Новалиса восхищает именно детское в ней: «Вечная дева не что иное, как вечное, женственное дитя... девушка, переставшая быть истинным ребенком, — больше не Дева». В поэзии Новалиса дитя — представитель (представительница) Золотого века или вечной старины. И самого себя Новалис нередко выводит в образе ребенка. В «Учениках в Саисе» учитель хочет уступить свое место ребенку. В сказке Клингсора главное действующее лицо и движущая сила — малютка Муза, «блаженное дитя», как ее называет король. В «Гимнах к Ночи» Спаситель прежде всего Младенец, потом Отрок. Ганс-Иоахим Мэль, виднейший исследователь Новалиса, отмечает, что мифический образ ребенка выступает в его творчестве, соединяя все мысли и чаянья поэта[282]. В этом смысле, вероятно, следует понимать высказывание Новалиса о Софи: «Она ничем не хочет быть — Она есть нечто».
Новалиса захватила праздничная атмосфера, царившая в Грюнингене, в доме, где росла Софи фон Кюн. Эта атмосфера неподдельного веселья отличалась не только от угрюмых нравов отчего дома, но и от чопорного эпикурейства, культивируемого в доме комтура фон Харденберга. Едва ли не с большим основанием можно утверждать, что размышления Генриха в шестой главе романа навеяны празднествами в Грюнингене: «Я пережил торжество, впервые пережил, однажды пережил». Наверное, среди этого торжества случились четверть часа, решившие судьбу всей его жизни. Но грюнингенские празднества оказались небезоблачными. Новалис успевает пережить отрезвление. Его удручают маленькие ссоры, приступы ревности, которой не чужда ангелическая Софи. Года не прошло, как Новалис начинает подумывать даже о расторжении помолвки, что проскальзывает в письме к любимому брату Эразму от 17 ноября 1795 г. Новалису всегда было свойственно то, что Гёльдерлин без ведома Новалиса назовет священной трезвостью, впрочем, в отношения с юной невестой могла закрадываться и просто житейская трезвость, даже расчет. Но первоначальное чувство вернулось, когда Софи заболела. Тяжелая легочная болезнь подкосила ее. В июле 1796 г. в Иене, где с ней познакомился Гёте, ей сделали операцию. Но хирургическое вмешательство не помогло. Все в том же когда-то праздничном Грюнингене 19 марта 1797 г. Софи умерла.
В романтической новелле смерть возлюбленной всегда является кульминацией действия. Так было и в жизни Новалиса. Неизвестно, решили бы те четверть часа судьбу его жизни, если бы не эта смерть. Она превратила всю оставшуюся жизнь и творчество Новалиса в рыцарское служение, о чем знали только самые близкие друзья, о чем вряд ли подозревали расположенные к нему сослуживцы и начальники (не забудем, что профессиональная деятельность Новалиса не прерывалась чуть ли не до самой смерти), но тайное решение, принятое после смерти Софи, оказалось тем более твердым и непререкаемым, оно определило его дальнейшую жизнь и, возможно, предопределило его смерть, что, по крайней мере, отчасти подтверждается медиками.
В 1797 г. после похорон Софи Новалис записывает в своем дневнике: «У могилы мне пришла в голову мысль, что моею смертью я явлю человечеству пример верности до смерти. Я как бы сделаю возможной такую любовь». И впоследствии искренне увлеченный своей службой, литературными планами, новой помолвкой Новалис не отказывается от этой мысли, втайне приберегает ее, «как сокровище на будущее». В жизни Новалиса складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, трагическое по-прежнему чуждо ему, и гармоническая натура берет свое, отвергая малейший намек на пессимизм и отчаянье. С другой стороны, как категорически утверждает Шлейермахер, сама судьба Новалиса, сама личность его отмечена трагизмом: «Он посвятил себя смерти». Но это трагизм с точки зрения Шлейермахера, а не с точки зрения Новалиса. В 1799 г. Гёльдерлин писал: «Так Эмпедокл должен был стать жертвой своего времени; проблемы судьбы, в которой он вырос, должны были в нем разрешиться мнимым образом, и это разрешение должно было явить себя как мнимое, временное, что более или менее происходит со всеми трагическими личностями»[283] (пер. мой. — В. М.). Сам Новалис не считал, во всяком случае, найденное им решение мнимым. Можно возразить, что этим лишь усугубляется его трагизм, но и на это напрашивается возражение: остается открытым вопрос, мнимое ли разрешение своей проблемы нашел Новалис и не было ли у него оснований считать свое решение вечным. Таким основанием является его творчество. То, что другие сочли самопожертвованием, для самого Новалиса и для его читателя остается жизнеутверждением. Кажется, судьба откликнулась на его мольбу в «Жалобах юноши»: «Ниспошли мне скорбь...» Сама скорбь оборачивается для Новалиса жизнеутверждением, и невозможно установить, происходит это в жизни или в поэзии: и в жизни, и в поэзии, и в мироощущении. Через три месяца после смерти Софи Новалис пережил нечто на ее могиле, и 29 июня 1797 г. в его дневнике появилась запись, ставшая заклинанием или мистическим девизом всей его жизни: «Христос и София». Этому переживанию посвящен четвертый гимн к Ночи, прагимн, из которого вырастают все остальные гимны. Еще при жизни Софи 8 июля 1796 г. Новалис пишет Фридриху Шлегелю: «Моя любимая наука зовется в своей основе как моя невеста. Софией зовется она — Философия, душа моей жизни и ключ к моему собственнейшему существу». После смерти Софи Новалис постигает, что имя его возлюбленной — имя самой Премудрости Божией: София, а София неразлучна с воскресшим Христом. В четвертой духовной песне Новалис засвидетельствует это тайное, что не может не стать явным:
На вопрос я не отвечу,
Кто шагнул ко мне навстречу,
Кто кого ко мне ведет.