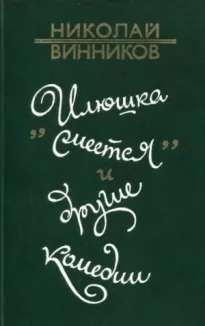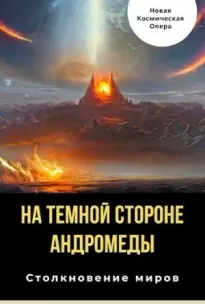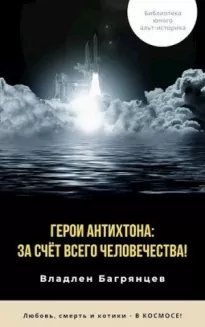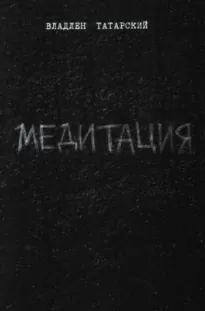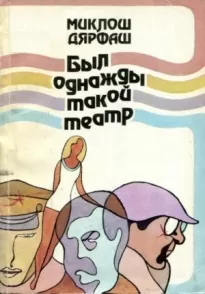Владлен Давыдов. Театр моей мечты
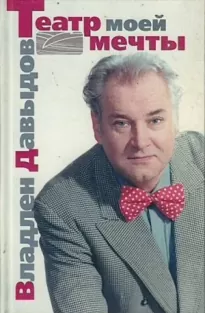
- Автор: Владлен Давыдов
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2004
Читать книгу "Владлен Давыдов. Театр моей мечты"
Первая «заграница»
Моя первая «заграница» была в 1947 году, когда я после окончания Школы-Студии получил путевку в дом отдыха «Рабис» в Дзинтари на Рижском взморье. Я влюбился в Ригу, особенно в старую Ригу… И фантазировал, какая тут была раньше жизнь. Остатки ее я еще застал — в Майори было частное кафе, где обаятельная мадам Моника пекла вкусные пирожки и пирожные. Здесь легко можно было представить Ригу до войны. Ведь в 1940 году, после «добровольного присоединения» Латвии к СССР, туда ездили наши артисты, как за границу. А еще раньше, в 1930-е годы Василий Иванович Качалов играл в Русском театре в Кемери Несчастливцева в «Лесе», и у меня есть его фотографии в этой роли и открытки, где он запечатлен абсолютным иностранцем, и даже с усиками… Я покупал такие фотографии на рынке в Риге.
Так получилось, что наш благодетель директор МХАТа В.Е. Месхетели не только предоставил нам с Юрой Ларионовым (тогда он был еще Касперович) путевки в дом отдыха «Рабис», но и после этого устроил нас на питание в Майори, в доме отдыха «Чайка», и поселил рядом на даче.
На этой даче у нас с Юрой были две комнатки с балконом на втором этаже. А внизу, под окнами, у хозяев стояла корова в хлеву. Она с раннего утра мычала, и немецкая овчарка, которая охраняла дом, тут же начинала рычать и лаять… Так повторялось каждое утро, и мы ужасно не высыпались. Ведь мы ложились поздно, а уже в пять часов утра начинался этот дикий «концерт». Тогда мы стали принимать снотворные таблетки, но и это не помогло. И мы решили, что лучше давать снотворное собаке… Теперь она уже не лаяла, а тихо скулила по утрам, и мы нормально спали.
Мы с Юрой часто приходили к Месхетели на дачу, где он жил со своей семьей — женой, балериной Большого театра, Ядвигой Сангович и маленьким сыном. Там же, на этой даче жила секретарь Немировича-Данченко Ольга Сергеевна Бокшанская (родная сестра Елены Сергеевны Булгаковой) умнейшая женщина. То, что она видела и рассказывала о жизни театра за почти тридцатилетнее свое служение в нем, было не менее интересно, чем книги о МХАТе. А еще в том же домике жил знаменитый художник театра Владимир Владимирович Дмитриев со своей красивой женой Мариной.
И беседы после ужина во дворе этой дачи были первыми откровениями о таинственной тогда для нас жизни МХАТа. То, как Месхетели и все остальные относились к нашей Школе-Студии и к нам, первым студийцам, делало нас счастливыми. Вот это отношение — не покровительственное, но внимательное и заботливое — окрыляло нас всех в студийные годы. А в 1951 году, когда у нас с Марго родился сын Андрей, В.Е. Месхетели прислал нам трогательную телеграмму.
С Юрой мы тогда совершали интереснейшие экскурсии по Риге. Залезали в заброшенные лютеранские башни и оттуда осматривали весь город. А однажды нашли там целый клад — пачку довоенных латвийских денег.
И вообще, все здесь напоминало о прошлом, как и в Ленинграде — он ведь тоже, по сути, европейский город… Но Рига — это была моя первая встреча с Европой. И так случилось, что и на следующий год я приехал в Ригу — на съемки своего первого фильма «Встреча на Эльбе». Съемки шли в старом городе, у Домского собора, на разрушенной площади. А в 1950 году мы с Марго поехали в дом отдыха «Рабис», а потом жили на даче у моего двоюродного брата Леонида Семеновича Баранова, который тогда работал в редакции «Правды». Это были счастливые дни нашего медового месяца. В это же время в Майори снимал дачу Александр Николаевич Вертинский с семьей — своей шикарной женой Лидией Владимировной, тещей и двумя чудными дочками: Марьяной (тогда она еще звалась Бибой) и Настенькой. Александр Николаевич там в Летнем концертном зале давал свои концерты, и на них впервые были его девочки.
А потом он пригласил нас с Марго на день рождения Марьяны — ей исполнилось семь лет… Это был незабываемый день. Я впервые увидел тогда Александра Николаевича в семейной обстановке. До этого я был его гостем только в ресторане гостиницы «Астория» и здесь, в Майори, в ресторанах «Лидо» и «Корсо» — после его концертов.
Дома он был такой же обаятельный, как на сцене, но еще и бесконечно интересный рассказчик: говорил о своем друге Шаляпине, об Иване Бунине, о Сергее Рахманинове, о Шанхае, о Париже и о встрече там с палачом, и обо всех, обо всем, что он видел в своих странствиях, а если не видел, то знал или фантазировал… Ведь он объехал весь мир со своими оригинальными «ариэтками» и был для русских эмигрантов той грустной радостью, которая вызывала у них слезы о потерянной навсегда Родине…
В «Корсо» однажды произошел смешной случай. В этом громадном зале на эстраде выступал тогда, в 1950 году, эстрадный оркестр из Львова под управлением Филиппа Кеслера — он играл на скрипке и вел программу, объявлял номера. И у него была такая скверная из-за его странных зубов (хотя он был… дантист!) дикция, что иногда было непонятно, что он объявляет. Хорошо, что пел в его оркестре не он сам, а Николай Щербаков. И вот, увидев, что в зале за одним из столов сидит Вертинский со своей компанией (мы с Марго и Юра), он вдруг объявил:
— В шэсть находящегося в нашэм зале корифэя гудской эстрадэ Александра Вегтинского исполняем его пэсню…
А когда Коля Щербаков запел, Александр Николаевич, не меняя выражения лица, наливая вино в бокалы, зло процедил:
— Болван — это же Лещенко!
Потом Филипп Кеслер, видимо, ожидая похвалы, подошел к нашему столу, и Александр Николаевич ему резко сказал:
— Я послал вашему оркестру шампанское. Выпейте за здоровье Лещенко!
У Александра Николаевича было великолепное чувство юмора. И он любил рассказывать всякие истории и про себя, и про своих друзей.
— Александр Николаевич, а почему у вас сегодня нет Брохеса?
— А у Мишки семейная радость — к его даме приехал муж.
А про Ливанова он иронически говорил:
— У Борьки Ливанова небольшой роман — он влюблен в себя и пользуется взаимностью…
Порой в таких застольях, когда Александр Николаевич очень уж увлекался в своих рассказах или повторялся, Миша Брохес тихо говорил нам:
— Старик свистит…
Но их творческая связь была уникальна, и любовь и преданность Брохеса Вертинскому была удивительна. Видимо, Вертинский стал для Миши его вторым «я». Наверное, именно поэтому после смерти Александра Николаевича он так часто в кругу поклонников Вертинского напевал его песенки… тихо и слегка грассируя…
И вообще, все эти застольные встречи были так же неповторимы, как концерты Вертинского, а я бывал на его концертах раз десять и знал его репертуар наизусть — ведь еще в Студии в 1944 году мы переписывали его тексты. А я даже (это без слуха-то!) иногда для себя пел и «Желтый ангел», и «Матросы», и «Прощальный ужин». И, что было странным даже для меня самого, попадал в их мелодию. Должно быть, так врезались они мне в душу. Недаром мой товарищ по Студии Костя Градополов мне говорил:
— Владлен, у тебя есть слух, но только ты им редко пользуешься…
А вот в случае с песнями Вертинского я, видимо, все-таки «пользовался» своим слухом…
И еще об А.Н. Вертинском.
Мы с Марго и в Москве ходили на его концерты и бывали в его гостеприимном доме. А когда у нас родился сын Андрей, Александр Николаевич прислал в подарок для него пеленки и ползунки. А потом подарил нам свою фотографию с такой надписью:
«Владлену Давыдову — моему юному другу. Желаю Вам, дорогой Владлен — простого человеческого счастья. У вас хорошая жена Маргоша, чудесный сын Андрей и все впереди. А это уже очень много — молодость! Вы — талантливый молодой актер, и все зависит от Вас самого. На нашей чудесной Родине — будущие люди — коммунизма должны быть прекрасными и светлыми! Будьте таким! Ваш всегда Александр Вертинский».
Ну, а первая настоящая заграничная поездка у меня была в 1955 году. После моего участия в двух фильмах, где я играл наших советских офицеров («Встреча на Эльбе» и «Застава в горах»), меня в театре почти всегда включали во вес военно-шефские концерты. И в 1955 году весь МХАТ уехал на гастроли в Свердловск, а я попал в такую же военно-шефскую бригаду в Прибалтике, и меня уже сделали бригадиром. Мы объехали все военные базы и части, начиная с Латвии и кончая Порткала-Удд, где после войны на территории Финляндии была военно-морская база наших войск. Эту территорию финны называли «самым длинным тоннелем в Европе», так как поезда по ней неслись с плотно зашторенными окнами…
Тогда я впервые увидел каменную красоту Финляндии и ее неожиданные озера. И было непонятно, зачем зашторивать окна в поездах — ведь, кроме этой красоты, ничего в них нельзя было увидеть…
— Наша задача — как можно глубже уйти под камни, — говорили нам военные, перед которыми мы тогда выступали.
А Марго ездила с МХАТом на гастроли в Свердловск.
После успешной поездки в Прибалтику нас направили в ГДР — тоже на шефские концерты по «частям Военной группировки советских войск в ГДР». Бригаду эту подкрепили такими артистами, как Майя Плисецкая, Ирина Масленникова, Надежда Капустина, Борис Борисов, Александр Бегак и Алик Плисецкий — из Большого театра. А из мхатовцев поехали В.Д. Бендина, И.П. Гошева, M B. Анастасьева, Т.П. Махова, С.Г. Яров, М.П. Щербинина и мхатовский квартет из вокальной части театра с концертмейстером Евгенией Смирновой. Наша актриса Татьяна Махова хорошо знала немецкий язык и была в этой поездке просто незаменима — ведь у нас были концерты и для немцев.
Мы с Марго там играли сцену из «Правда хорошо, а счастье лучше». Ее тогда играли многие молодые артисты. Режиссером у нас был Владимир Петрович Баталов (отец известного киноартиста Алексея и брат знаменитого Николая Баталова). Владимир Петрович порой очень увлекался этой своей ролью и был не только строг, но и очень требователен; пожалуй, только со мной, как с бригадиром, он был доверительно либерален.
Эта поездка перевернула все мое представление о побежденной Германии. Мы тогда объехали всю советскую оккупационную зону, которая в 1949 году стала называться ГДР. После войны прошло 10 лет. У нас в стране еще оставались «послевоенные трудности». Вот почему одним из самых сильных впечатлений для меня оказалось посещение военторга в Вюнсдорфе, где находилась наша постоянная база. Такого обилия товаров, даже в хозяйственных отделах, не говоря уже о мануфактуре, я еще никогда не видел. А Марго мне сказала:
— Ты пойди в город и там зайди в магазин — упадешь в обморок…
Конечно, было обидно и стыдно за то, что мы живем хуже немцев, которых победили в 1945 году. Почему? В чем дело? За что этот позор? Когда я вернулся из ГДР в Москву и появился в театре, одетый с ног до головы во все «заграничное», Б. Ливанов сказал:
— Вы посмотрите, как разгромленные немцы одели Давыдова, который играл в кино советского офицера-победителя!..
Это был грустный юмор. А мы с Марго, действительно, смогли купить много вещей, так как у нас было еще несколько платных концертов и для немцев, и для фирмы «Висмут».
Нашу программу в воинских частях принимали всегда с восторгом. Она действительно была и разнообразна, и интересна. Мы тогда побывали в таких городах, как Дрезден, Потсдам, Карл-Маркс-Штадт (бывший Хемниц) и попутно побывали в парке Сан-Суси и в Веймаре с его уникальными Хаус-Музеями Гёте и Шиллера. Ужасное впечатление на меня произвел мертвый Цвингер — дворцовый ансамбль, где прежде была знаменитая Дрезденская галерея. Сокровища Дрезденской галереи я увидел в мае в Москве, их тогда перед возвращением немцам показали в Музее изобразительных искусств им. Пушкина. И «Мадонна» Рафаэля ошеломила всех своей божественной чистотой и воздушностью…