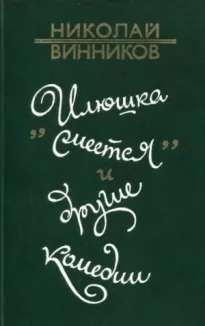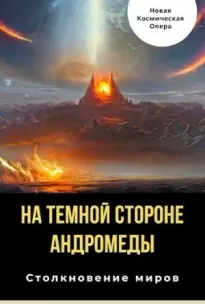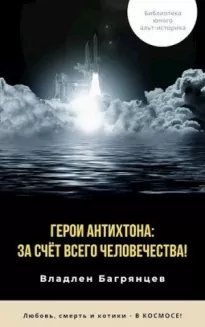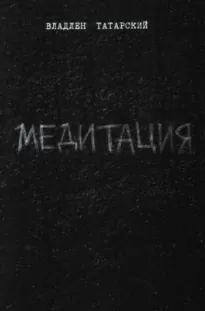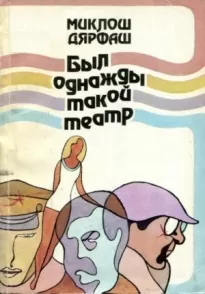Владлен Давыдов. Театр моей мечты
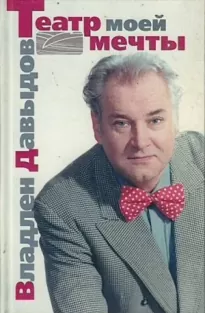
- Автор: Владлен Давыдов
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2004
Читать книгу "Владлен Давыдов. Театр моей мечты"
Легендарный Качалов
А теперь я хочу рассказать о моем любимом старом МХАТе, который я еще застал. И начну с моего кумира, великого Василия Ивановича Качалова.
Каждое время, каждая эпоха рождает своих героев, свои идеи и представления о жизни. И актер, как всякий художник, чувствующий свое время и сумевший ярко и эмоционально выразить дух его, остается в истории. Так были кумирами публики В. Каратыгин и П. Мочалов, В. Комиссаржевская и М. Ермолова, Н. Ходотов и П. Орленев, Ю. Юрьев и А. Южин. Не говоря о М. Щепкине и К. Станиславском… Но творчество актера, его создания уходят из жизни вместе с ним. Остаются только портреты, противоречивые рецензии и легенды.
Василий Иванович Качалов почти не снимался в кино, а его радиозаписи были порой несовершенны, не всегда удачны, и по ним судить о его великом искусстве очень трудно. Остаются книги и воспоминания людей, которые видели его на сцене и знали в жизни.
…Впервые я увидел В.И. Качалова в Доме Союзов в концерте. На сцене белого Колонного зала стоял высокий, стройный человек в черном костюме. Он читал Маяковского, потом сцену «На дне» — один и за Сатина, и за Барона. Его голос, благородство и обаяние покорили меня на всю жизнь.
Удивительным, неповторимым явлением в русском и мировом театре был Василий Иванович Качалов. Сама природа создала его для театра. Он не мог быть никем иным, кроме артиста. У него для этого были идеальные данные, и внешние, и внутренние. И была исключительно счастливая судьба.
Я хотел как можно больше узнать о нем и прочитал много статей, старых рецензий и книг. И вот что я узнал.
Любовь к театру появилась у него очень рано. Еще мальчиком, побывав в театре на опере «Демон», он надевал старую отцовскую рясу (отец его был священником) и, взобравшись на шкаф, изображал Демона: «Я тот, кого никто не любит и все живущее клянет…»
А позже гимназист Вася Шверубович с первого своего появления на любительской сцене завоевал симпатии зрителей в роли Хлестакова и сделался кумиром Большой улицы и сквера «Телятник» в городе Вильно. И конечно же, он решил стать актером.
В двадцать два года, после большого успеха в студенческом спектакле (в роли Несчастливцева), поставленном знаменитым актером В.Н. Давыдовым, который, кстати, и благословил его на сцену, Шверубович ушел с четвертого курса юридического факультета Петербургского университета и, по совету друзей, поступил в театр Суворина. Перед тем, как подписывать контракт, А. Суворин спросил его:
— Шверубович? Вы еврей?
— Нет.
— Почему же у вас такая фамилия? Тяжелая фамилия, для театра не годится. Перемените.
На столе лежала суворинская газета «Новое время», на первой странице был некролог — «Василий Иванович Качалов……. Так родилось новое театральное имя. Но истинное рождение великого артиста В.И. Качалова состоялось позднее.
Через год его работы в театре Суворин спросил:
— Что же это вы, Качалов, ничего не играете?
— Не дают.
— А вы требуйте. Надо требовать.
Но требовать Василий Иванович никогда не умел и не хотел. Летом он опять играл большие роли в любительских спектаклях, а потом был приглашен на гастроли в Харьков и Полтаву с актером Александрийского театра В. Долматовым.
В старину острили, что провинциальный актер состоит из души, тела и цилиндра. Василий Иванович вспоминал: «…купил, себе цилиндр… И вот, сменив очки на пенсне (как у Долматова. — В.Д.), в клетчатых штанах, цилиндре и огненно-рыжем пальто явился я… в труппу Бородая». Это было в 1897 году. Качалов получил приглашение антрепренера Бородая играть в театрах Казани и Саратова. За один сезон он сыграл более ста (!) ролей. К концу третьего сезона он уже — премьер театра, и его имя известно во всей российской провинции.
И вдруг в январе 1900 года В.И. Качалов получает телеграмму из театрального бюро: «Предлагается служба в Художественном театре. Сообщите крайние условия»… Надо сказать, что это был всего лишь второй сезон Художественного театра, в провинции о нем знали еще очень мало и считали его «любительщиной». Бородай прямо заявил:
— Вы там погибнете, а я из вас через год российскую знаменитость сделаю!
Качалов колебался. Но тут один старый актер сказал:
— Художественный театр — это, конечно, вздор. Но… Москва! Увидит тебя Корш и возьмет к себе, а то еще, чем черт не шутит, возьмут тебя на императорскую сцену, в Малый театр. Поезжай. Только смотри, не продешеви.
В конце февраля 1900 года В.И. Качалов приехал в Москву. В Художественно-Общедоступном театре ему устроили что-то вроде дебюта «без публики». Он показал две роли, которые с успехом играл в провинции, — Грозного и Годунова из «Смерти Иоанна Грозного». Но уже на репетициях был ошеломлен какой-то новой правдой этого театра. И растерялся. А после дебюта, на который пришла, конечно, вся труппа, все работники и друзья театра, за кулисами «Эрмитажа» с ним долго беседовал К.С. Станиславский. Василий Иванович потом вспоминал:
— Смысл его слов был такой, что дебют показал, насколько мы чужие друг другу люди. И в заключение он сказал мне: «В том виде, какой вы сейчас из себя представляете как актер, к сожалению, мы воспользоваться вами не можем. Но мне лично будет очень жаль, если вы от нас уйдете, потому что у вас исключительные данные и, может быть, со временем вы сделаетесь нашим актером»… Мое актерское самолюбие говорило мне: конечно, надо бежать и искать, «где оскорбленному есть чувству уголок». Но какое-то актерское любопытство удерживало меня и приковывало к этому театру…
Прошло несколько месяцев. Качалов приходил раньше всех на репетиции «Снегурочки», хотя не был занят в них, и уходил позже всех. Прислушивался. Хотел понять секрет этого театра.
И однажды Станиславский предложил ему приготовить роль Берендея, которая ни у кого не получалась. Качалов приготовил. Показал. И Станиславский воскликнул:
— Это чудо! Вы — наш! Вы все поняли, поняли самое главное, самую суть нашего театра! Ура!
Он крепко обнял Качалова и поцеловал.
С этого дня начался блистательный путь В.И. Качалова в Художественном театре.
Видимо, подобно тому, как встреча К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко была закономерностью, так встреча В.И. Качалова с Художественным театром оказалась необходимостью. Театру с его революционными идеями, с его современным репертуаром нужен был новый, мыслящий, интеллигентный артист, который мог бы выражать на сцене идеи этого театра. У Качалова было все для того, чтобы стать таким артистом. И он им стал! Все победы, все высшие достижения Художественного театра связаны с его именем.
«Может быть, со времени Мочалова не было у московского зрителя такого любимца, как Качалов… В «Берендее» он очаровал зрителей своим голосом: слушали и не могли наслушаться… И не столько потому, что так мелодичен и сердечен был этот незнакомый баритон, что так изящно звучали слова. Сразу повеяло от всего образа такой благородной красотой, такой тонкой прелестью. В антракте после первой качаловской сцены все спрашивали: «Откуда взялся он? Где откопали этот клад?!..» (Коля-Коль. «Одесские новости»).
Потом был Тузенбах в «Трех сестрах». А.П. Чехов сказал Качалову:
— Чудесно, чудесно играете Тузенбаха… чудесно же… А какой вы еще будете большой актер… Очень, очень большой!..
О Тузенбахе писали:
«Никогда, может быть, первый герой Художественного театра и первый герой симпатий и восторгов театральной публики г. Качалов не был так художественно закончен и так глубоко лиричен…» (Н. Эфрос. «Солнце России»)
Или еще:
«Г. Качалов дает в высшей степени художественную фигуру, отделанную до мельчайших деталей, вплоть до дерганья головой несколько вбок и чуть-чуть заметного заикания». (Авель. «Родная земля»).
О его Бароне «На дне» М. Горький говорил:
— Ничего подобного я не писал. Это гораздо больше. Я об этом и не мечтал. Я думал, что это «никакая роль». Качалов ее выдвинул, и развил, и объяснил великолепно.
«Это был шедевр, блестящий шедевр», — писали газеты.
«Барон в олицетворении г. Качалова — сценический шедевр…» («Одесский листок»).
О Пете Трофимове из «Вишневого сада»:
«И снова удивителен «вечно неузнаваемый» Качалов…» «Единственный театр, понявший душу, сущность Чехова… И Качалов — блистательный выразитель этой чеховской сущности»…
И вдруг — «Бранд» Г. Ибсена — героический образ, бунтарь.
«Качалов имел успех, редкий и в Художественном театре. Качалов в Бранде велик».
«С редкой проникновенностью, граничащей с гениальностью, играет он эту роль…»
Об Иваре Карено из пьесы Кнута Гамсуна «У врат царства» писали:
«Героем, великим человеком с гениальной мыслью и стальной волей, когда нужно отстаивать свою правду, — таким сыграл его Качалов». («Русские ведомости»).
О его Пер Басте («У жизни в лапах» К. Гамсуна):
«Господи, Боже мой, сколько обаяния отпущено природой Качалову!..» «Он играл увлекательно, живописно, театрально и эффектно, как и подобает играть в день ретеатрализации театра…» «Особенно радовал найденный им экзотизм, театральное хладнокровие — почти хладнокровие кинематографических американцев…»
О «Юлии Цезаре»:
«Художественной победой надо считать исполнение г. Качаловым роли Цезаря…»
Вл. И. Немирович-Данченко говорил потом, что он просто заставил Качалова прославиться в этой роли, которую Василий Иванович считал (после сыгранных им главных ролей) менее интересной.
И тут же — Чацкий.
«Москвичи совершили революцию над пьесой: они разбили вдребезги все традиции, все ожидания публики и критиков».
«Качалов открыл в роли Чацкого ту человечность, ту поэтичность, тот нежный лиризм, которых до него тщательно избегали на всех сценах «первые любовники»…»
«Кажется, что воскрес Бестужев, или Лунин, или, может быть, Чаадаев, с которого, говорят, Грибоедов и писал Чацкого. Он кажется близким, и понятным, и своим…»
А позднее, через восемь лет после премьеры, напишут:
«Качалов играет его теперь в очках. В гриме — под Грибоедова».
«Грим артиста оригинален: Чацкий все время в очках, под Грибоедова, и похож на юного философа, только что оторвавшегося от лекций западных мудрецов…»
Спектакль Вл. И. Немировича-Данченко «Братья Карамазовы» не только перевернул все постановочные традиции, но и дал простор искусству таких актеров, как Леонидов, Москвин и Качалов, которые потрясали зрителей.
Он шел два вечера. Во втором у Качалова было три сцены. Одна из них — «Черт. Кошмар Ивана Карамазова» — стала вершиной актерского искусства. «Знаете ли вы, что это такое — полчаса провести актеру одному на сцене, на почти темной сцене и не позволить все это время никому в зале кашлянуть, или отвести глаза, или оторваться на миг мыслью?..» — так писали тогда рецензенты.
На сцене стул, диван, стол. На столе свечка. Сидит Иван Карамазов и разговаривает с чертом… Качалов играл эту сцену один…
И, наконец, в 1911 году «Гамлет» в постановке Гордона Крэга.
«Бледное, чеканное лицо, обрамленное длинными волосами. Лицо аскета и философа…» «Мы видели Гамлета в каком-то новом исполнении, благородном и вдумчивом. Артист так воплотился в свою роль, что трудно отделить его от нее… Гамлет — Качалов держит зрителей под впечатлением нарастающего ужаса, приковывает внимание, заставляет с жутким чувством следить за каждым своим движением, словом до последней сцены поединка, убийства Клавдия и своей смерти».