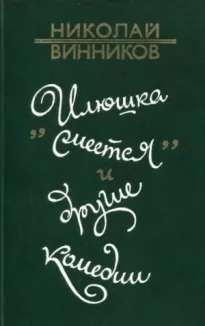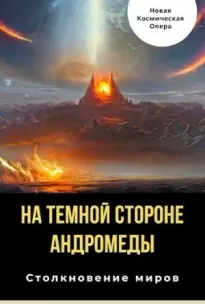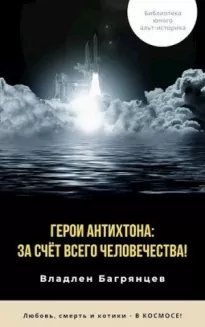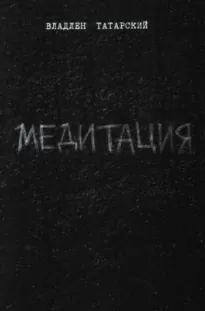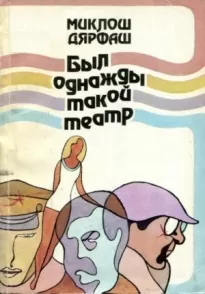Владлен Давыдов. Театр моей мечты
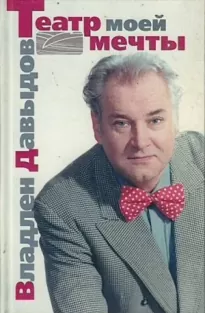
- Автор: Владлен Давыдов
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2004
Читать книгу "Владлен Давыдов. Театр моей мечты"
…Весной 1949 года, увидев меня в буфете, Борис Георгиевич сказал:
— Я хотел тебе позвонить. Мы с Леночкой смотрели фильм «Встреча на Эльбе» с твоим участием. Ты хорошо играешь и Леночке очень понравился. Она просила меня достать твою фотографию. Подари ей. Только напиши что-нибудь хорошее.
Я принес свою фотографию и хотел было написать Лене пожелание успехов в жизни и в учебе, но Борис Георгиевич возразил:
— Нет, про учебу не надо писать, она у меня и так отличница.
В ту же весну я встретился с ним на концерте в Политехническом музее. Он читал рассказ Горького «Емельян Пиляй». Я видел, как он волновался, когда читал, — торопился на другой концерт. Потом за кулисами попросил меня выступить в школе, где училась Лена, на утреннике по случаю окончания учебного года.
Я хорошо помню этот день. Было очень жарко. Борис Георгиевич тоже сидел на сцене. Обливался потом, но сидел. Потом выступил. Он смущался и не мог скрыть своего счастья — ведь его Леночка кончала школу с золотой медалью. Он любил свою дочь больше всего на свете.
…27 октября 1949 года днем в нижнем фойе МХАТа, как всегда в этот день, собралась вся труппа, чтобы отметить пятьдесят первую годовщину театра. О.Л. Книппер-Чехова и М.Н. Кедров поздравили всех собравшихся, особенно «круглых» юбиляров и тех, кому вручались значки «Чайка». Потом актеры долго не уходили из театра, а сидели в фойе, в буфете, за кулисами и, возбужденные, разговаривали, шутили, смеялись. Ведь они так редко собирались все вместе.
Этот день всегда бывал радостным и немного грустным — вспоминали прошлое театра, его создателей и тех, кого уже нет. Так было — в те годы…
А вечером в этот день неизменно шел спектакль «Царь Федор Иоаннович».
Впервые мне удалось попасть на такое торжество в 1940 году. Тогда Вл. И. Немирович-Данченко и И.М. Москвин поздравили всех и стали вручать значки «Чайка». Все это происходило очень по-мхатовски — тепло и просто. Владимир Иванович поприветствовал всех награжденных и сказал, что значок «Чайка» был утвержден в правительстве как своеобразный орден МХАТа. Каждому, кто выходил на сцену получать «Чайку», он говорил теплые слова, шутил и дружески пожимал руку. Потом был концерт с участием Марины Семеновой, Сергея Лемешева, Владимира Хенкина. Больше всех веселился, хохотал и реагировал на юмор Добронравов. Я впервые увидел и услышал, как он заразительно смеется — «по-добронравовски» — до слез. Так же открыто и прямо он высказывал свое мнение, порой даже резко.
Тогда, в 40-м, Добронравов только начинал репетировать роль царя Федора. А теперь, 27 октября 1949 года, вечером, на основной сцене МХАТа он играл ее уже в 166-й раз. В этот вечер спектакль «Царь Федор» шел с подъемом — в зале было много друзей театра, молодежи, студентов, которые так любили Добронравова. Было заметно, что Борис Георгиевич волнуется: теперь, после болезни, он очень редко играл, всего два раза в месяц — один раз дядю Ваню и один раз царя Федора.
Когда к 50-летию МХАТа в октябре 1948 года шли репетиции «Царя Федора», так как спектакль полтора года не шел, то стали обновляться и народные сцены. Меня заняли в трех картинах:
«Примирение» (2-я картина) — выходил в Шуйских, про которых Клешнин говорит: «Ишь, как идут! И шеи-то не гнутся!»;
«Сад Шуйских» (3-я картина) — выходил в гостях Шуйских;
«Перед Архангельским собором» (8-я, финальная картина) — стоял всю картину в рындах.
Для меня теперь каждый спектакль «Царя Федора» стал особенной радостью — ведь я находился на сцене рядом с моим кумиром Б. Г. Добронравовым и видел близко-близко, как он играет царя Федора. Особенно мне запомнился последний — трагический спектакль…
Он неровно играл эту роль. У него вообще не было одинаково сыгранных спектаклей. Но он был истинный ученик К.С. Станиславского и его завет о «сквозном действии» и «сверхзадаче» свято выполнял. И всегда «шел от себя», поэтому в зависимости от настроения и самочувствия у него менялись краски и приспособления, и эти постоянные импровизации делали его исполнение живым и органичным.
Вероятно, «сквозное действие» Федора в спектаклях МХАТа было у всех исполнителей этой роли одно: «всех согласить, все сгладить» — иначе «что с землею будет?!» Но играли эту роль, конечно, каждый по-своему, и у каждого была своя «сверхзадача».
Царь Федор Добронравова был высок и строен и скорее похож на старшего сына Ивана Грозного, на репинского Ивана — бледное, нервное лицо с громадными глазами. Он стремительно вбегал на сцену со словами: «Стремянный! Отчего конь подо мной вздыбился?» И сразу какая-то волна тревоги и недоброго предчувствия проносилась по залу… Но это лишь одно мгновение — Федор быстро успокаивается, и мы видим, что он добрый и даже не по-царски общительный и простой человек. Он с радостью готовится примирить давнишних врагов — правителя царства Бориса Годунова и верховного воеводу князя Ивана Петровича Шуйского. И не может скрыть своего счастья, когда это примирение наконец состоялось. В умилении сжимая руки на груди, он восклицает: «…это в целой жизни мой лучший день!..» Но его поспешный уход в конце первого действия кажется каким-то странным — когда его окружили ползающие на коленях выборные люди, а он мягким, нерешительным жестом защищается от них и быстро исчезает в низкой нише двери… И дальше эта странность, это предчувствие беды становится все тревожнее…
Во второй картине, в сцене «Примирение», когда он близко подошел к Шуйским, я заметил, как у него на лбу из-под парика выступили капельки пота… Он всегда эту роль играл с полной отдачей и со всем темпераментом, какой у него был, не жалея своего сердца. А с этим спектаклем у него была связана вся жизнь. Когда-то, много лет назад, молодой актер Борис Добронравов выходил в народной сцене, играл стремянного, стоял в рындах, потом сыграл Голубя-сына, потом Красильникова, потом Клешнина и мечтал о царе Федоре… Ведь с этим же спектаклем была связана и вся история Художественного театра, так же как с пьесами Чехова и Горького. Все гастроли по стране и за рубежом начинались всегда «Царем Федором». В этот вечер спектакль шел уже в 920-й раз.
После антракта и «Сада Шуйских» началась четвертая картина — «Отставка».
Покои царя. Раннее тихое утро. Вдали временами слышны глухие удары колокола. Федору приснился вещий сон — примирение было ложным… И внутреннее беспокойство, которое Федор все время пытается скрыть, вдруг прорвалось в неожиданном крике: «Я царь или не царь? Царь иль не царь?» Но он тут же сникает и даже как-то стесняется своей несдержанности. И снова хочет помирить опять поссорившихся Годунова и Шуйского. Но это ему не удается: уходит Шуйский, а потом и Борис. Федор остается один с Ириной: «…на Бога надеюсь я. Он не оставит нас!» — убежденно произносит он. Федор знает: «Когда меж тем, что бело иль черно, избрать я должен — я не обманусь», потому что: «…тут по совести приходится лишь делать». И остается один с этой верой. Но один он бессилен что-либо решить.
Всегда после «Сада» я оставался на сцене и из-за кулис смотрел эту картину. Но на этот раз помощник режиссера Р.К. Таманцева почему-то мне не разрешила стоять в кулисе. Я ушел на четвертый этаж переодеваться. А когда спустился в актерское фойе, встретил Бориса Георгиевича — он шел, тяжело дыша, со сцены в свою комнату. Кивком головы со всеми поздоровался и закрыл за собой дверь. Разговоры в фойе притихли.
После второго антракта Борис Георгиевич, сосредоточенный, снова прошел мимо нас — играть шестую картину, «Святой». Картина эта большая и очень трудная для Федора.
Измученный, отчаявшийся, с заломленными за головой руками, сидит он над кипою бумаг в ожидании Шуйского, за которым дважды посылал. Вот наконец Шуйский приходит и сознается: «Да! Сегодня брата я твоего признал царем!» Федор растерян, он не ожидал такого прямого ответа. Но он и теперь не берет Шуйского под стражу, как того требует Клешнин, а тихо на ухо говорит Шуйскому: «Все на себя беру я, на себя!.. Да ну, иди ж, иди! Разделай, что ты сделал!» — и плечом вытесняет его из комнаты…
До жути ровно и спокойно произносил Федор этот приговор самому себе. Слова Шуйского: «Нет, он святой!.. Я вижу, простота твоя от Бога» — были точным определением того образа, который создавал Добронравов, — образа человека не от мира сего. Поэтому так неожиданен был буквально через мгновенье гнев Федора, когда он узнает о новом заговоре Шуйских, о том, что они хотят разлучить его с Ириной: «Под стражу их! В тюрьму! Пусть посидят в тюрьме», — прижимаясь к Ирине, повторяет неистовый Федор, боясь остановиться, боясь снова простить Шуйского. Эта пронзительная сцена была переломной у Федора — Добронравова.
Больше всего я любил, как Добронравов играл финальную 8-ю картину — «Перед Архангельским собором». Я всегда видел ее целиком, поскольку все время стоял на сцене в рындах.
Для Добронравова она была главной. Казалось, он весь спектакль шел и готовился к ней, ради нее играл эту роль. Это было видно и по тому, как он распределял свои силы в спектакле, и по тому, как он ее играл. Он часто повторял:
— Мои любимые роли те, которые дают возможность выразить сильные, трепетные чувства, страсти, в которых можно проявить нерв, темперамент.
Именно в этой картине и происходила подлинная трагедия царя Федора.
Во всю сцену — громадная стена Архангельского собора. Из храма доносится пение — идет панихида по Ивану Грозному. Трезвон во все колокола — выходит царь Федор в полном царском облачении, с тяжелым посохом в руке. У него усталый вид и грустный взгляд. Он опускается на колени, липом к собору и молится:
— Царь-батюшка! Наставь меня! Вдохни в меня твоей частицу силы и быть царем меня ты научи!.. Советы все и думы я слушать рад, но только слушать их, не слушаться!..
И когда он говорит Борису: «От нынешнего дня я буду царь!», — то видно, что это не прежний добрый Федор, а грозный царь. Но видно и то, чего стоит Федору это преображение, это насилие над собой, над своей природой. На глазах у зрителей происходила эта трагическая борьба с самим собой. Он то сдерживал себя, то вдруг в нем прорывалась отцовская кровь, и он швырял в Туренина свой тяжелый посох, когда тот сообщал, что Шуйский «сею ночью петлей удавился»:
— Лже-о-о-ошь! Не удавился — удавлен он! Ты удавил его!
И тут Добронравов с невероятным, потрясающим темпераментом, какой был у этого великого артиста, взывал:
— Па-ла-а-чей-й! Поставить плаху здесь, перед крыльцом! Здесь передо мной! Сейчас!!!
По-разному играли эту картину исполнители роли Федора. Н.П. Хмелев — лаконично и строго. Когда играл И.М. Москвин, было страшно за его Федора — так трепетно-беспомощны были взрывы его темперамента. Когда же играл Добронравов, то было страшно за окружающих — что он с ними может сейчас сотворить… У его Федора темперамент взрывается, «как Божий гнев». И, казалось, нет силы, которая бы могла его остановить. Только прочитав сообщение о смерти Дмитрия, он наконец осознает всю трагичность своего положения и от горя плачет, плачет, как ребенок… Ведь Дмитрий был его последней надеждой. А теперь он сломлен окончательно, он готов уйти от мира: