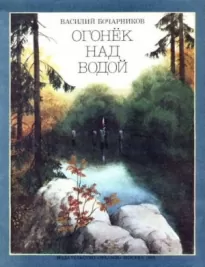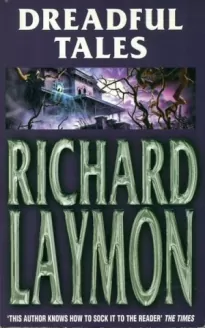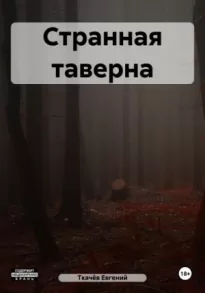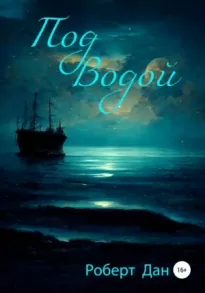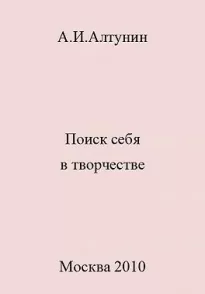Магистрали жизни
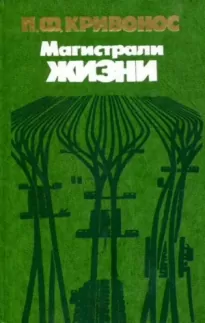
- Автор: Пётр Кривонос
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 1978
Читать книгу "Магистрали жизни"
В те бурные годы
По донецким степям гремели и перекатывались грозные волны гражданской войны. Мы, совсем тогда зеленая детвора, жили в ощущении того, что вокруг вершится что-то огромное, великое. Жадно вслушивались в разговоры взрослых, стараясь уразуметь, почему орут и стреляют разъяренные офицеры и пьяные солдаты из белогвардейских полчищ, откуда и зачем у нас появились говорящие на чужом языке военные в серо-зеленых мундирах и рогатых касках, кто такие эти странные, пестро одетые, щеголяющие в меховых шапках с длинными шлыками люди?
А таинственные большевики! О них в нашей и в соседских семьях сначала говорили шепотом, с оглядкой. Знали мы монтера депо М. Авраменко. Рабочий — как и все вокруг. А оказалось, что он руководит железнодорожным большевистским подпольем в Славянске. С жадным мальчишеским любопытством глядели мы на машиниста Ф. Алябьева — комиссара депо. «Комиссар»! Это слово слышалось повсюду. Комиссарами были самые стойкие, самые авторитетные рабочие из нашей железнодорожной среды. А удивительные рассказы о Софье Мокиевской, легендарном комиссаре бронепоезда «Власть — Советам», героически погибшей в бою при защите станции Дебальцево…
Цепкая детская память запечатлевает так глубоко события, что они потом сохраняются на всю жизнь. Происходившее в те далекие годы часто помнится более ярко и отчетливо, нежели то, чем заполнялась жизнь в уже зрелую пору. Наверное, поэтому так живо стоит перед глазами тот удивительный день — 11 марта 1920 года. К нам в Славянск прибыл агитпоезд «Октябрьская революция». На перроне вокзала собрался многолюдный шумный митинг. Выступал приехавший с агитпоездом Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Говорил просто, так, будто беседовал по душам со старыми друзьями. И выглядел по-рабочему — в косоворотке, неказистом пиджачке и кепочке.
Своими впечатлениями я поделился дома с отцом.
— Понятно, — улыбнулся он. — Сказано — власть рабочих и крестьян. Сам Калинин-то — бывший токарь.
Так и слились в детском сознании два понятия — большевик и рабочая власть — в одно: большевики — это рабочие, ставшие теперь хозяевами новой жизни.
Жизнь той поры со всеми ее бурными событиями — с грохотом боев, жаркими речами на собраниях и митингах, яркими плакатами на заборах и стенах, красными лозунгами в цехах депо — закладывала в детские души зачатки того, что позже сформировалось, окрепло и прочно определило сознание юной рабочей поросли. Это большевистская идейность и высокий революционный дух.
Детские годы мои проходили в трудовой, революционной рабочей среде. Рабочие депо и железнодорожники узла Славянск жили тесной и дружной семьей в своем пристанционном поселке.
Железнодорожные поселки… Разные они — большие и малые, расположенные вблизи гулких узловых станций или невдалеке от путей полевых раздельных пунктов. Но имеют и немало общего. Сразу узнаешь: здесь живут железнодорожники. Усадьбы их ограждены заборами из старой вагонной обшивки, сарайчики во дворах из старых шпал, уже отслуживших свое на путях; на улицах шуршит под ногами паровозный шлак, которым засыпают лужи и ухабы; из труб тянется дымок, наполняя воздух острым, крепким запахом каменного угля. Даже здешний ритм жизни имеет свои особенности. Он тесно связан с расписанием движения поездов, регламентом дежурств, началом и концом рейсов локомотивных бригад.
Таким был и наш поселок на околице Славянска. Улица, на которой стоял наш домик, называлась Железнодорожной. Она, как и другие, была узкой, заросшей травой. Под заборами расстилались лопухи. Зато как красиво здесь было весной, когда сады покрывались вишневым цветом. Его повсюду было много. Но больше всего мы, дети, любили осень — время душистых яблок, сладких груш.
Новая, советская, жизнь шла по донецкой земле. Это чувствовалось во всем: и в радостных гудках паровозов, и в беге поездов. Да и во дворах наших стало веселее: стучали молотки, жужжали пилы. Мастеровые люди в свободное от работы время слесарили или занимались плотницким делом.
Так и жили у самых железнодорожных путей. За станцией начинался тихий городок Славянск. Между зелеными кварталами чистеньких домов выделялись темные кирпичные стены карандашной фабрики, содового и керамического заводов, приземистые строения нескольких кустарных солеварен. Наиболее шумным и оживленным местом на околице был железнодорожный узел, где круглосуточно посвистывали паровозы, наигрывали рожки стрелочников, лязгали буфера при сцеплении вагонов.
Вспоминая Славянск, вижу старый домик с соломенной крышей, почерневшей от дождей и солнца. Его купил отец за небольшую сумму, накопленную на протяжении многих лет. Родом отец из бедного села Кукулевки Сумского уезда Харьковской губернии. Как и сотни подростков из обездоленных крестьянских семей, пошел из родного дома на поиск заработков. Почти сорок лет тяжело работал по найму. Ныне только старики, бывшие горняки, могут рассказать о горькой шахтерской судьбе тех времен. Даже не верится, что, работая по четырнадцать часов, крепильщик получал ежедневно шестнадцать копеек. Артельщики цепко держали в своих руках робких сельских юношей, беспощадно эксплуатировали их. Жили шахтеры в темных, влажных землянках, куда даже солнце не заглядывало. Не лучше было и на железной дороге. Прошел отец и солдатчину, о чем рассказывал с особой горечью. В 1906 году устроился работать на железной дороге в Феодосии, а через пять лет — плотником депо Славянск. Сюда переехала и наша семья.
Детство наиболее памятно походами к реке Казенный Торец, где мы, загорелые и счастливые, ловили вьюнов, опуская на дно, в тину, корзины из лозы, а потом кричали возле них, топали ногами, как в пляске. Масса быстрых серебристых рыбок попадала в нашу западню. Путешествовали и на гору Карачун, невдалеке от поселка, и в Славянский сосновый бор, бродили по берегу Северского Донца, где раскинулся густой реликтовый лес. Там сохранилась растительность доледникового и ледникового периодов. Разнообразие деревьев, кустарников, трав, цветов влекло к себе, волновало детское воображение.
Но вокруг бушевала гражданская война. По ночам мимо наших домиков проносились конные ватаги петлюровцев, шумные банды разных атаманов.
Бывало и так: среди ночи в дом врывались пьяные, озверевшие, увешанные оружием головорезы и устраивали штаб или ночлег, а нас выгоняли в сарай. Спустя некоторое время подымалась возня, доносилась стрельба, и «бравых» вояк будто ветром сдувало — это наступали наши.
Потом появились немецкие оккупанты в запыленных серо-зеленых мундирах. Наглая солдатня грабила разоренные хозяйства, забирала последних кур, поросят. Школа на длительное время превратилась в казарму: парты и классные доски оккупанты сломали на дрова, сожгли библиотечные книги.
С тяжелым сердцем откладывал я в сторону железную коробку из-под пулеметных лент, которая служила ранцем. Вот уже несколько лет учиться приходилось урывками.
— Терпите, малыши, — говорили взрослые, — вот придут наши…
Видел наш Славянск и осатаневшую белогвардейщину из деникинских армий, рвавшуюся к центру страны, оккупировавшую Донбасс. Позже, бросая оружие, обозы, раненых солдат, эти «вояки» бежали на Юг.
И наступил день, когда на станцию прибыл закопченный бронепоезд. Открылись тяжелые двери его стальных вагонов, на перрон вышли бойцы в кожаных куртках с красными звездами на шапках. А по улицам, подымая облака пыли, мчались тачанки, запряженные четверками лошадей. Это вступали в город части Красной Армии. Вскоре весь Донецкий край был очищен от контрреволюционных банд. Последние бои гражданской войны гремели теперь далеко на юге, на подступах к Перекопу.
Страна залечивала раны, нанесенные интервентами. В школу спешили наши матери, чтобы вымести мусор, вымыть полы. А отцы чинили парты, забивали фанерой оконные рамы. Вскоре школьный двор заполнила веселая детвора. Раздался звонок, зовущий снова на уроки.
В рабочей среде ценилось прежде всего умение хорошо трудиться, и мы, мальчишки, горя желанием работать, с раннего детства тянулись к молотку, пиле, напильнику. Много раз, бывало, я бегал к отцу в депо, и не только затем, чтобы собрать обрезки древесины и стружки на топливо, — часами, не отрываясь, смотрел, как работают ремонтники. Визжала дисковая пила, гремели листы железа под молотком кровельщика, шуршали напильники в руках слесарей, подгонявших подшипники. С каким наслаждением дышал я смоляными запахами сосновых досок, крепким ароматом смазки! Следил за точными движениями рабочих, любовался их мастерством и сноровкой. А на ремонтных канавах стояли локомотивы, выпускали густой пар, сверкали медью начищенной арматуры. Избегая встречи со строгим мастером, я наблюдал, как работает ремонтная бригада. Вот котельщики открыли тяжелую дверь дымовой коробки, вынимают оттуда дымогарные трубы. Слесари разбирают дышловой механизм, арматуру.
Дети из рабочего поселка были хорошо осведомлены о жизни коллектива депо. Знали, что люди иногда круглосуточно не покидают цехов, ремонтируя разбитые паровозы. Это была тяжелая, сложная, но очень необходимая работа. Мы прислушивались к разговорам рабочих. В клубе или возле своих жилищ они беседовали о преодолении разрухи на транспорте, о том, что встают из руин донецкие шахты, выдавая уголь на-гора́. Машинисты, возвращаясь из рейсов, рассказывали о том, что стали в строй заводы Краматорска, Дружковки, Юзовки, Горловки. По ночам край неба освещали зарницы — это давали знать о себе донецкие домны и мартены, уже поднявшиеся из руин. Везде кипел напряженный труд.
С тревогой и волнением толковали железнодорожники о своих делах: ведь разрушено немало участков пути, на отрезке Славянск — Лозовая взорваны все мосты, не везде восстановлены гидроколонки, ненадежная связь, а главное — мало паровозов и вагонов. Потому коммунисты и комсомольцы, профсоюзные активисты депо в свободное время обходили дома железнодорожников, агитировали рабочих помочь срочно отремонтировать паровоз или выгрузить уголь из эшелона. В выходные дни люди с песнями шли на воскресники.
Так и росли мы, дети железнодорожного поселка, совмещая учебу в школе с работой на узле. Но стремились мы к одному: быстрее вырасти и стать такими же, как взрослые, — умелыми мастеровыми — слесарями, котельщиками, кузнецами и, конечно, машинистами. Я мечтал поступить в школу фабрично-заводского ученичества, созданную на нашем узле в 1921 году. Она находилась в большом доме, конфискованном у купца Голосняка. Вначале здесь вместо парт стояли длинные скамейки, а стол преподавателя помещался на пороге, точнее, посредине двух смежных комнат — классов. Учащиеся держали книги и тетради на коленях, к слесарным тискам выстраивались очереди.
Когда я закончил школу-семилетку, наше ФЗУ стало уже самым оборудованным, хорошо организованным учебным заведением, имевшим производственные мастерские, столовую, общежитие, даже сад и подсобное хозяйство. Вскоре был построен еще один большой корпус, где разместились аудитории, технические кабинеты, спортивный зал, не забыли также и о жилых домах для преподавателей и инструкторов. Возник настоящий учебный городок. Партийные работники, руководители дороги понимали, как необходима эта школа. Транспорту были очень нужны квалифицированные кадры: следовало дать путевку в жизнь сотням юношей и девушек, прежде всего — детям транспортников, с детства мечтавшим о железной дороге.