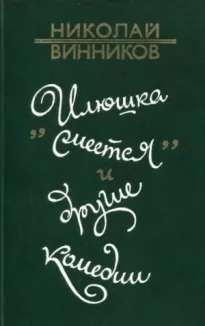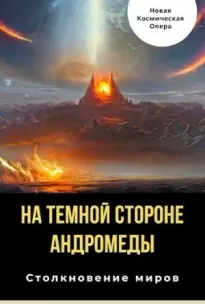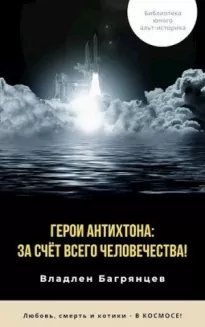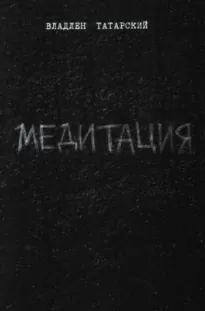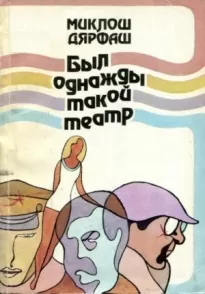Владлен Давыдов. Театр моей мечты
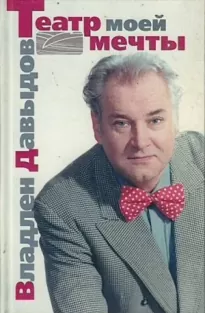
- Автор: Владлен Давыдов
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2004
Читать книгу "Владлен Давыдов. Театр моей мечты"
— А что вы хотите? Чтобы я разрешил вам сниматься в кино? А что за роль? А почему вам не разрешают в театре? Но что я могу сделать? Я могу дать указание директору МХАТа товарищу Месхетели, но ведь вам работать в театре у этого директора… Что же вы, каждый раз будете обращаться ко мне?
— Да нет, я прошу только один раз…
Разрешение от Месхетели было получено, однако после этого прежнее его доброе ко мне отношение изменилось.
В Калининграде я снимался «вслепую», то есть ни разу не видел себя на экране. Григорий Васильевич говорил:
— Пока и не надо, это не главные сцены.
А жаль! Зато потом он же настаивал, чтобы я вместе с ним смотрел все сцены и сам мне деликатно объяснял, что у меня получилось, что не получилось и почему. Это были наглядные уроки и отличная школа блестящего Мастера кино. Иногда во время просмотров и Э.К. Тиссэ давал мне советы:
— Владик, видите, вы тут вышли из света? А тут не встали на точку…
Так, шаг за шагом, я постигал профессию киноактера. И в этом мне помогал прежде всего Григорий Васильевич, который верил в меня. А в остальном никаких проблем не было: грим — просто тон, костюм военный, и всё! В.В. Кузнецова тоже меня поддерживала и делала это незаметно. Да и вся группа всячески шла навстречу.
Когда начались съемки в павильоне в Москве, я уже обрел уверенность и «вошел» в роль. У нас с Григорием Васильевичем установилось взаимопонимание без слов. Стоило ему сделать определенный жест, и я все понимал. Конечно, в Москве мы более подробно и глубоко разбирали каждую сцену, каждое слово. Кое-что из этого согласовывалось с Министерством иностранных дел, а не только с авторами сценария братьями Тур и Л.Р. Шейниным. К фильму было особое внимание в разных инстанциях, а уж на «Мосфильме» — в особенности. Потому что Александров впервые снимал не музыкальную комедию, а сугубо политический фильм.
Я был на одном из первых обсуждений нашего материала худсоветом «Мосфильма». Помню, забился в угол в последнем ряду в небольшом просмотровом зале. Волновался так, что меня трясло: в зале сидели те, кто сейчас будут обсуждать и решать… Мне натурные съемки понравились. Э.К. Тиссэ снял разрушенный город как жуткий памятник войны. (Я потом думал, что руины Сталинграда надо было бы оставить как памятник, а город строить рядом.) Что касается моих сцен, моей игры, то я, увидев свои промахи и недостатки, очень расстроился.
Началось обсуждение не то вяло, не то осторожно. Об актерах говорили мало. И только режиссер А. Медведкин в пух и прах разгромил «главного героя фильма Давыдова, который меня не убедил. Эту роль, пока не поздно, надо передать такому актеру, как Николай Крючков или Хохряков!» Вот таков был его окончательный приговор. Что я пережил в тот момент, не хочу даже вспоминать… Это было последнее выступление, и, казалось, на этом все и кончится. Но тут встал Г.В. Александров и, как всегда улыбаясь, как-то вкрадчиво, полушепотом поблагодарил всех «за полезное обсуждение» и добавил:
— Что касается главного героя, которого у нас играет молодой артист Владлен Давыдов… кстати, он сидит здесь в зале…
Тут все стали крутить головами, желая увидеть, как я прореагировал на речь Медведкина и вообще, жив ли еще?..
Александров продолжал:
— Так вот, я в нем уверен, он талантливый актер Художественного театра и сыграет роль хорошо. Мы хотим, чтобы это был молодой офицер сталинской эпохи. Тем более, что все главные сцены у него еще впереди, мы будем снимать их теперь уже в павильоне.
На этом обсуждение, ставшее судилищем, закончилось, меня начали искать, но я убежал первым и уехал домой.
Не успел войти в квартиру, раздался телефонный звонок:
— Владик, что же вы так внезапно ушли, не поговорив со мной? Сейчас за вами приедет шофер и привезет вас к нам домой. Мы ждем вас с Любовью Петровной. Все будет хорошо. Попьем чаю, поговорим.
Его ласковый, дружеский тон тронул меня, и я только сумел сказать:
— Спасибо. Приеду.
Это был один из тех разговоров, которые случались у нас обычно перед съемкой и на репетициях. Александров ни слова не говорил об обсуждении, а только о том хорошем, что было у меня в отснятом материале и что надо еще сыграть, чтобы роль вышла многогранной, крупной. Как всегда после таких встреч, я ушел окрыленный, дома схватил сценарий и стал записывать мысли, которые родились в результате этой беседы.
Съемки в Москве шли почти круглосуточно. Я ни о чем, кроме роли, не мог и думать. Это было самое счастливое время. Ко мне в группе стали относиться более бережно. Я это почувствовал. Особенно Любовь Петровна. В перерывах приглашала в свой «фургон», который стоял тут же, в павильоне, и угощала чаем или кофе. Лучшей партнерши в кино я не мог себе и представить. Она была не суперзвезда, а добрая, красивая, простая женщина — товарищ по работе. Меня это восхищало. И потом, когда я бывал у них в гостях в Москве или на даче во Внукове, она была такой же внимательной, милой хозяйкой и очаровательной женщиной. А то, что они с Григорием Васильевичем обращались друг к другу на «вы», вносило какую-то особую уважительность в их отношения. Меня это всегда поражало и восхищало. Красота отношений была очевидна и в их искусстве — несколько приукрашенном и немного выдуманном, идеализированном. Но мне это нравилось и в работе сними, и в их фильмах, кроме разве что самых последних…
После смерти Сталина, мне кажется, они растерялись, а после XX съезда и вовсе утратили чувство реальности. Мне было обидно и горько за них. Но перелом наших представлений о прожитой жизни потряс тогда всех, всю страну, а не только их.
А мне иногда хочется вернуться в то время и в те места, где я был молод и счастлив, мечтал, влюблялся и ошибался…
Может быть, именно поэтому я и решил попытаться все восстановить в памяти. Часто мысленно возвращаюсь к местам моей молодости — на Арбат, Плющиху, Кропоткинскую. Для меня всегда было особенно дорого не только мое, но наше общее ушедшее прошлое. Именно поэтому я люблю музеи. И был счастлив в Музее МХАТа, где меня окружало прекрасное прошлое этого театра.
Но, к сожалению, и тут Чехов прав:
«…То, что кажется нам серьезным, значительным, очень важным, — придет время, — будет забыто или будет казаться неважным. И интересно, мы теперь совсем не можем знать, что, собственно, будет считаться высоким, важным и что жалким, смешным… И может статься, что наша теперешняя жизнь, с которой мы так миримся, будет со временем казаться странной, неудобной, неумной, недостаточно чистой, быть может, даже грешной…»
Да, да, именно такие мысли у меня возникали, когда я захотел снова увидеть Самару через 25 лет или Калининград через 10–15 лет.
А тогда, спустя три года после войны, этот прусский город был мертвым. В его трагическом пейзаже было что-то таинственное и притягивающее. Я бродил по его пустынным улицам, заглядывал в его разрушенные дома и особняки со следами былого величия и красоты. Полуразрушенная башня в королевском замке и могила Иммануила Канта в храме без потолка и стен. А кругом буйная зелень, цветущие липы и сирень. И ободранные, худые и испуганные немцы, которые еще не успели уехать в Германию. Я запомнил личико одной немецкой беленькой девочки: «Мария Тереза Анна фон Люцковски», — назвала она себя с гордостью. Где-то она сейчас? Ей ведь тоже уже лет за шестьдесят, наверно. Их собрали тогда во дворе тюрьмы, где мы снимали сцену освобождения. Тюрьма была громадная и мало пострадавшая от войны. Потом мы снимали сцену «черного рынка» на площади, где стоял изуродованный памятник Бисмарку с пробитой головой. Там в съемках участвовали пленные немцы, одетые в гражданские костюмы или в форму американской армии. Меня удивило, как многие из них были элегантны и породисты. Они радостно и весело «играли» массовую сцену, казалось, им это нравится.
И совсем страшное впечатление. Однажды у меня заболел зуб, и я обратился к врачу-немцу, участвовавшему в наших съемках. Он пригласил в свой «кабинет» — грязную комнату в полуразрушенном доме. Когда я увидел, как он моет инструменты в тазу, тут же «выздоровел» и убежал.
Конечно, все, что я увидел в этом городе через десять-пятнадцать лет, ничем не напоминало о прошлом. Опасно возвращаться к местам прошлого: в молодости все воспринимается по-другому. Особенно бывает грустно встречаться с друзьями юности и с теми, в кого ты в юности был влюблен. А уж встречи с былыми кинозвездами — действительно, настоящий киношок! Съемки фильма «Встреча на Эльбе» были завершены к концу 1948 года. Г. В. Александров собрал съемочную группу и показал целиком смонтированный фильм. Он просидел не одну неделю с монтажницей Е.М. Ладыженской и сделал фильм, несколько измененный в сравнении со съемками и сценарием. Григорий Васильевич считал (как и С.М. Эйзенштейн), что самое интересное занятие — монтировать фильм. У него в квартире на стене висел белый квадрат-экран, и он мысленно монтировал на нем фильмы.
Я смотрел свою первую кинокартину с невероятным волнением — ведь у меня была главная роль! Но то, что увидел, несколько меня удивило: каких-то сцен не было, хотя их снимали, а другие вдруг стали главными. Особенно неожиданна была сцена в американском клубе, где пели и танцевали буги-вуги:
Если атомом азота
Можно целый мир взорвать,
К чему бороться?
Все продается…
Э. Гарин тоже выделывал на эстраде какие-то трюки; его ботинки оказались прикреплены к полу, и он чуть не падал с эстрады.
Известный эстрадный артист Иван Байда скрючивался кренделем, и его голова оказывалась сзади между ног. Все происходило под дикую музыку Д.Д. Шостаковича, которую с блеском исполнял пианист экстра-класса Александр Цфасман в невероятном темпе. Фильм строился на резких контрастах: хоровая песня о мире и грустно-лирическая «Тоска по Родине» в исполнении великой Н.А. Обуховой — и дикий джаз…
Музыка, написанная для фильма Д.Д. Шостаковичем, очень органично сочеталась с V симфонией Бетховена в сцене открытия памятника Генриху Гейне.
Позже, на банкете в Доме актера, где собрались участники фильма, когда я поздоровался с Шостаковичем, Григорий Васильевич, улыбаясь, сказал:
— Владик, вы сейчас пожали руку обыкновенного гения…
Александров гордился тем, что пригласил на картину Шостаковича, которого вместе с С. Прокофьевым, А. Хачатуряном и рядом других композиторов только что подвергли уничтожающей критике за формализм в музыке в постановлении ЦК ВКП(б) «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели» от 10 февраля 1948 года…
Да, фильм, вернее, моя роль несколько изменилась после монтажа. Было жаль некоторых сцен, когда, казалось, мне удалось внести какие-то теплые, человеческие черты в довольно официальную роль советского коменданта.
Через неделю после просмотра, в январе 1949 года, вдруг возникла необходимость в некоторых досъемках и пересъемках. Но этими мелкими изменениями дело не ограничилось. В газетах началась кампания по борьбе с космополитизмом. Каждый день приносил новые «разоблачения» деятелей литературы, кино и других видов искусства. Начался настоящий шабаш по уничтожению «врагов» советского искусства. Судьба фильма была под угрозой: Александрова тоже кое-кто обвинял в низкопоклонстве перед Западом и Америкой.