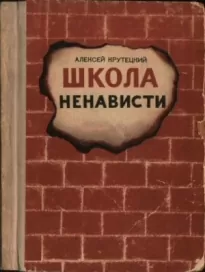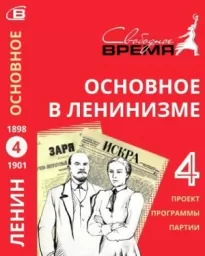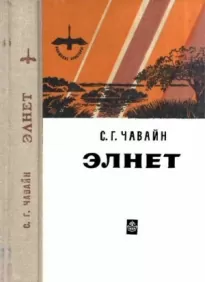Основное в ленинизме. Том 5. Аграрный вопрос
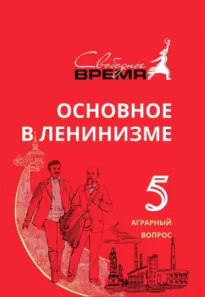
- Автор: Владимир Ленин (Ульянов)
- Жанр: Философия / Экономика / Политика и дипломатия
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Основное в ленинизме. Том 5. Аграрный вопрос"
Отметим, что Клавки «не считает» в мелком и среднем хозяйствах труда самих хозяев по дренированию почвы, по ремонту всякого рода («крестьяне сами работают») и т. п. Это «преимущество» мелкого хозяина социалист называет Ueberarbeit, чрезмерным трудом, перерабатыванием, а буржуазный экономист — одной из выгодных («для общества») сторон крестьянского хозяйства. Отметим, что в средних хозяйствах, по указанию Клавки, наёмные рабочие получают лучшую плату и харчи, чем в крупных, но и работают интенсивнее: «пример» хозяина побуждает к «большему прилежанию и тщательности». Кто же из этих двух капиталистических хозяев, помещик или «свой брат» крестьянин выжимает из рабочего больше труда за данную плату, — Клавки не пытается определить. Мы ограничимся поэтому указанием на то, что расход на страхование рабочих от увечий и на случай старости составляет для крупного хозяина 0,29 марки на морген, для среднего — 0,13 марки (мелкий земледелец и здесь пользуется тем преимуществом, что вовсе себя не страхует, — разумеется, к немалой «выгоде общества» капиталистов и помещиков), — и затем ещё ссылкой на пример русского земледельческого капитализма. Читатель, знакомый с книгой Шаховского «Отхожие земледельческие промыслы», помнит, может быть, такое характерное наблюдение: мужики–хуторяне и немцы–колонисты (на юге) отбирают себе рабочих «на выбор», платят им на 15–20% дороже, чем крупные наниматели, и выжимают из них на 50% больше работы. Это сообщал г. Шаховской в 1896 г., а в нынешнем году мы читаем, напр., в «Торгово–Промышленной Газете» такое сообщение из Каховки: «…Крестьяне и хуторяне, по обычаю, платили дороже (чем экономии платили наёмным рабочим), так как требуют лучших рабочих и более выносливых». Вряд ли есть основания думать, что подобное явление свойственно одной только России.
В приведённой выше таблице читатель заметил два приёма расчёта: включая и не включая денежную оценку рабочей силы хозяина. Г-н Булгаков считает приём включения оценки «едва ли правильным». Разумеется, точный бюджет натуральных и денежных расходов и хозяев и батраков был бы гораздо правильнее, но раз таких данных нет, то приходится неизбежно определять денежные расходы семьи приблизительно. И вот чрезвычайно интересно, как Клавки делает этот приблизительный расчёт. Крупные хозяева сами, конечно, не работают: они имеют даже особых управляющих, исполняющих за плату весь труд по руководству и надзору (из четырёх имений три с управляющими, одно — без управляющего; это последнее имение в 125 га Клавки считал бы более правильным называть крупно–крестьянским имением). Хозяевам двух крупных имений Клавки «кладёт» по 2000 марок в год «за труды» (состоящие, напр., в имении первом в том, что хозяин приезжает из своего главного имения раз в месяц на несколько дней, чтобы присмотреть за управляющим). Владельцу 125 га (у первого 513 га) он уже «кладёт» только 1900 марок за работу самого хозяина и трёх его сыновей. Разве не «естественно», что при меньшем количестве земли должен «обходиться» меньшим бюджетом? Средним хозяевам Клавки кладёт уже 1200–1716 марок за всю работу мужа и жены, а в трёх случаях также и детей. Мелким хозяевам — по 800–1000 марок за работу 4–5 (sic!) человек, т. е. немногим больше (если больше), чем получает батрак, инстман, зарабатывающий с семьёй всего на 800–900 марок. Итак, здесь уже делается ещё крупный шаг вперёд: сначала приравнивалось заведомо неравное, теперь объявляется, что уровень жизни должен понижаться от крупного хозяйства к мелкому. Ведь это значит заранее признать тот факт принижения капитализмом мелкого крестьянина, который якобы опровергается выкладками о размерах «чистой прибыли»!
И если денежный доход понижается с уменьшением размеров хозяйства по предположению автора, то сокращение потребления доказывается прямыми данными. Количество потребляемых в хозяйстве продуктов земледелия составляет на одного человека (считая двоих детей за одного взрослого): у крупного хозяина — 227 марок (среднее из двух цифр), у среднего — 218 марок (среднее из четырёх цифр), у мелкого — 135 (sic!) марок (среднее из 4‑х цифр). И притом, чем крупнее хозяйство, тем больше прикупается предметов питания. Клавки и сам заметил, что тут приходится поставить вопрос о той Unterkonsumption (недопотребление), которое г. Булгаков отрицал и о котором он здесь предпочёл умолчать, оказываясь ещё большим апологетом, чем Клавки. A Клавки старается ослабить этот факт. «Имеет ли место известное недопотребление у мелких хозяев, — говорит он, — этого мы не можем утверждать, но считаем это вероятным по отношению к мелкому хозяйству IV» (97 марок на душу). «Факт тот, что мелкие крестьяне живут очень бережливо (!) и продают многое такое, что они сберегают у себя, так сказать, ото рта».
Интересно, напр., что доход от продажи молока и масла в крупном хозяйстве равняется 7 маркам на морген, в среднем — 3, в мелком — 7. Дело в том, что мелкие крестьяне в своём хозяйстве «очень мало употребляют масла и цельного молока… а мелкое хозяйство IV (расход производимых в хозяйстве продуктов на потребление равен лишь 97 маркам на человека) и вовсе не употребляет». Пусть читатель сопоставит с этим (впрочем, всем, кроме «критиков», давно известным) фактом великолепные рассуждения Герца: «Да разве крестьянин ничего не получает за молоко?» «Не крестьянин ли ест свинью?» (откармливаемую молоком). Эти изречения надо почаще напоминать, как непревзойдённый образец самого вульгарного прикрашивания нищеты.
Делается попытка доказать, что высшей «производительности» мелкого хозяйства этот факт не устраняет: если поднять потребление до 170 марок — сумма вполне достаточная (для «меньшего брата», но не для капиталиста–земледельца, как мы видим), — то получим, что на 1 морген надо бы увеличить потребление и уменьшить доход от продажи на 6–7 марок. За вычетом их получим (см. выше табличку) 29–30 марок, т. е. всё же выше, чем в крупном хозяйстве. Но если мы поднимем потребление не до этой на глаз взятой цифры (и притом взятой пониже, ибо «ён достанет»), а до 218 марок (= действительность в среднем хозяйстве), то увидим, что доход от продажи продуктов упадёт в мелком хозяйстве до 20 марок на морген против 29 при среднем и 25 при крупном хозяйстве. То есть: исправление одной этой (из многочисленных указанных выше) неправильности в сопоставлениях Клавки разрушает уже всякое «преимущество» мелкого крестьянина.
Но в изыскиваниях преимуществ Клавки неистощим. Мелкие крестьяне «соединяют земледелие с промыслами»: трое мелких крестьян (из 4‑х) «прилежно ходят на подёнщину, получая, кроме платы, и харчи». Но особенно велики преимущества мелкого земледелия во время кризиса (как русским читателям давно уже известно из многочисленных народнических упражнений на эту тему, подогреваемых теперь гг. Черновыми): «Во время сельскохозяйственного кризиса, да также и в другое время, именно мелкое хозяйство будет обладать наибольшей прочностью, будет в состоянии сбывать сравнительно больше продуктов, чем другие разряды хозяйств, посредством крайнего сокращения домашних расходов, каковое сокращение должно, правда, вести к некоторому недопотреблению». «Многие мелкие хозяйства принуждаются, к сожалению, к этому высоким размером процентов по долгам. Но таким образом — хотя и с большим трудом — они получают возможность держаться и перебиваться. Вероятно, именно сильным сокращением потребления объясняется, главным образом, то увеличение мелкокрестьянских хозяйств в нашей местности, которое констатирует имперская статистика». И Клавки приводит данные о кёнигсбергском регирунгсбецирке (административном округе), в котором с 1882 по 1895 г. число хозяйств до 2 га возросло с 56 до 79 тыс., в 2–5 га — с 12 до 14 тыс., в 5–20 га с 16 до 19 тыс. Это — та самая Восточная Пруссия, в которой гг. Булгаковы усматривают «вытеснение» крупного производства мелким. И подобные господа, которые так по–суздальски толкуют цифры голой статистики площадей, кричат ещё о «детализации»! Вполне естественно, что Клавки считает «важнейшей задачей современной аграрной политики для разрешения вопроса о сельских рабочих на востоке — поощрить наиболее дельных рабочих к осёдлости посредством доставления им возможности, если не в первом, то хотя бы во втором (sic!) поколении, приобрести кусочек земли в собственность». Не беда, что инстманы, которые покупают себе кусочек земли из своих сбережений, «оказываются большей частью в худшем положении в денежном отношении; они это и сами знают, но их приманивает более свободное положение», — и вся задача буржуазной экономии (а в настоящее время, по–видимому, также и «критиков») поддерживать в самой отсталой части пролетариата эти иллюзии.
Таким образом, исследование Клавки по всем пунктам опровергает ссылавшегося на него г. Булгакова. Оно доказывает техническое превосходство крупного хозяйства в земледелии, чрезмерный труд и недоедание мелкого крестьянства, превращение его в батрака и подёнщика для помещика, доказывает связь роста числа мелких крестьянских хозяйств с ростом нужды и пролетаризации. Два вывода из этого исследования имеют особенно важное принципиальное значение. Во–первых, мы видим наглядно препятствия к введению машин в земледелии: это — бесконечное принижение мелкого земледельца, готового «не считать» своего труда, делающего для капиталиста ручной труд более дешё вым, чем машинный. Вопреки утверждениям г. Булгакова, факты вполне доказывают полную аналогию между положением мелкого крестьянина в земледелии и кустаря в промышленности при капиталистических порядках. Вопреки утверждениям г. Булгакова, мы видим в земледелии ещё более широкое принижение потребностей и усиление интенсивности труда, как орудие в конкуренции с крупным производством. Во–вторых, по отношению ко всем и всяким сравнениям доходности мелких и крупных хозяйств в земледелии мы должны раз навсегда признать абсолютно негодными и вульгарно–апологетическими выводы, игнорирующие три обстоятельства:
1. Как питается, как живёт и как работает земледелец?
2. Как содержится и как работает скот?
3. Как удобряется и рационально ли эксплуатируется земля? Мелкое земледелие держится всяческим хищничеством: расхищением труда и жизненных сил земледельца, расхищением сил и качеств скота, расхищением производительных сил земли, а потому всякое исследование, не принимающее всесторонне во внимание все эти обстоятельства, представляет из себя просто ряд буржуазных софизмов.
Лео Гушке в своей работе «Исчисление чистого дохода сельскохозяйственного производства в мелких, средних и крупных хозяйствах на типичных примерах Средней Тюрингии» (Иена, 1902) указывает справедливо, что «можно посредством одного только уменьшения» оценки рабочей силы мелкого земледельца получать такое вычисление, которое докажет его превосходство по отношению к среднему и крупному хозяйству и его способность конкурировать с ними. К сожалению, автор не додумал до конца этой мысли и потому не привёл в своей книге систематических данных о содержании скота, об удобрении земли, о содержании земледельцев в разных хозяйствах. Мы надеемся вернуться ещё к интересной книге г. Гушке. Пока же отметим лишь его указания на то, что мелкое хозяйство выручает низкие цены на продукты по сравнению с крупным, и его вывод: «мелкое и среднее хозяйство стремилось преодолеть кризис, наступивший после 1892 г. (понижение цен на с. — х. продукты) посредством возможно большего сокращения денежных расходов, а крупное хозяйство — посредством повышения урожаев путём повышения издержек на хозяйство». Расходы на семена, корма, удобрение уменьшились с 1887– 1891 по 1893–1897 гг. в мелком и среднем хозяйстве, увеличились в крупном. В мелком эти расходы составляют 17 марок на 1 га, в крупном — 44 марки.