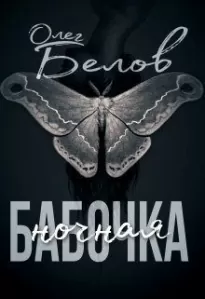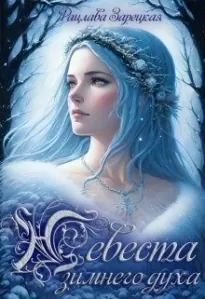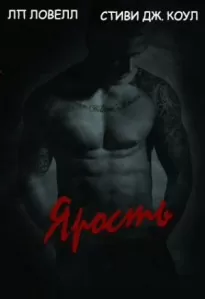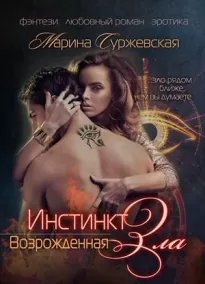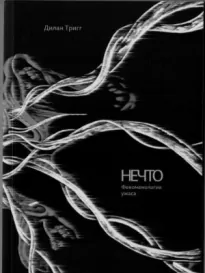Приспособление/сопротивление. Философские очерки

- Автор: Игорь Смирнов
- Жанр: Философия
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Приспособление/сопротивление. Философские очерки"
Интеллект, в котором то же самое (представление) делается Другим (метапредставлением), зеркален в сравнении с мозгом, обращающимся с Другим как с тем же самым. Интернализация приходящей извне опасности вместо уничтожения или избегания угрозы присуща только человеку, чей мозг наделен умением оставаться тем, что он есть, несмотря на дисфункцию одного из его компонентов. Наряду с насилием, ликвидирующим мою смерть в Другом, я могу нейтрализовать ее, также прочувствовав свой конец и очутившись по ту его сторону. Работа с травмой – антропологическая константа. Защита себя от отрицания путем его апроприации – наше общее свойство, коль скоро все мы пережили то чувство беспомощности перед лицом необъятного и неподвластного нам мира, которое Отто Ранк (1924) назвал «травмой рождения». У животных мозг регулирует метаболизм, у человека сюда прибавляется аутопойезис, по ходу которого сознание взаимодействует с церебральным телом, нагружая его составляющие разными потребными интеллекту функциями, допустим, локализуя семантическую память в левом полушарии, а эпизодическую – в правом. Наш мозг был «воспитан» сознанием (чему, вероятно, способствовало наличие в коре больших полушарий большого количества интернейронов, тормозящих нейрональные возбуждения и таким образом привносящих в самодеятельность мозга ограничения, как бы предрасполагающие его к тому, чтобы повиноваться интеллекту).
Несмотря на идеальность, сознание не безместно. Оно сопричастно мозгу как придающее на свой лад структуру его до того лишь физиологическому устройству, как вводящее части этого органа в ранее неизвестные корреляции. Модель всего лишь сетевого, никак не иерархизированного церебрального порядка была данью постструктурализму 1970–1980‐х годов, бессильному объяснить производительную работу сознания. Управляющее отношениями внутри мозга, сознание метафизично. Будучи эманацией мозга, оно вместе с тем от него в некоторой степени независимо и выставляет свой произвол напоказ, подчеркивая собственную ненатуральность. Если у правшей «сильным» оказывается левое полушарие, то у левшей оно будет «слабым», вспомогательным. В качестве самобытного сознание и вовсе покидает границы тела, ведет свое существование в коммуникатах (текстах), отправителей которых нет здесь и сейчас. Первым таким коммуникатом в антропоистории стали захоронения – сообщения о тех, кто уже не мог передать никаких сообщений. Сознание заставляет нас надеяться на то, что возможно бытие-вне-тел.
Итак, бессознательна материально-органическая база сознания, предпосылка его возникновения. На место фрейдовской триады «оно» – «я» – «сверх-я» приходит другая модель: мозг – предсознание – сознание. Мозг не просто усваивает себе поступающие извне сигналы, но и некоторым образом упорядочивает их. Проводимые им операции впервые были определены Уорреном Мак-Каллоком и Уолтером Питтсом, исходившими из того, что нейроны действуют по принципу «всё или ничего» (1, 0) и, таким образом, отвечают в своей активности двузначной логике. Мозг в описании Мак-Каллока и Питтса функционирует наподобие машины Алана Тьюринга, как компьютер[305]. Эта модель опрокидывала на церебральные операции пропозициональную логику, рожденную интеллектом. Но бессознательное нельзя принимать за сознание. Раз нервные клетки мозга образуют сеть, ее элементарная ячейка будет иметь три вершины, с тем чтобы не быть лишь двухконечным звеном в линейной цепи. Следует, далее, иметь в виду, что пущенный по нейрону импульс, стараясь попасть через синапс в другой нейрон, вызывает обратную связь между ними (о чем Мак-Каллок писал в статье, в которой пытался совместить логику мозга с теорией ценностей[306]). Проходя по аксонам в трехсоставной ячейке нейрональной сети через синапсы, возбуждение подвергается торможению. Мы вправе сказать, что передача импульса в ячейке имеет характер конъюнкции и ее отрицания. Прямые и обратные связи в ячейке делают электрохимический процесс, протекающий в сети, логически шестиместным. На пороге своего пути сигнал превращается из конъюнктивного в нон-конъюнктивный и в обратном к этому порядке оказывается и тем и другим, преодолевая в новом качестве препятствие, а на следующих двух этапах наращивает так обретаемую валоризацию в повторении петлеобразной процедуры на повышающемся уровне сложности. В результате мы получаем шесть ценностных позиций: положительную (V), отрицательную (–V), амбивалентную (±V), нейтральную (V0), сверхамбивалентную (±V & V0) и сверхнейтральную (– (±V & V0)). Неоднородные представления, наполняющие мозг, могут ассоциироваться, будучи сопоставимыми друг с другом по ценностной маркировке. Мозг, в-себе бессознательный, ориентирует своего обладателя прагматически, служа ему средством для (высокодифференцированного) оценивания ситуаций, но не раскрывает их семантику.
Нацеленный прагматически, мозг способствует нахождению путей, на которых самость утоляет свои желания – телесные по происхождению. Они внепсихичны, если лишь соматичны. Soma преобразуется в psyche, когда желания отделяются от наружного объекта и переживаются как настроение субъекта. Поскольку наша субъектность обусловливается самосознанием, постольку, чего бы мы ни вожделели вне нас, изнутри мы желаем одного и того же – быть собой. В предельной глубине желание автообъектно (оно при этом двусмысленно: я хочу быть собой и диагностирую свою смертность). Делёз и Гваттари были одновременно правы и неправы, критикуя теорию желания, ликвидирующего дефицит. Чем более мы самодостаточны в эндогенном желании (в приходе к себе), тем более нам недостает экзогенного объекта, который становится целостным, как и мы сами, всем, что ни есть, – миром, нашим универсальным дополнением. Раз желание направляется на того, кто им охвачен, оно получает кроме прагматического параметра также семантический. Ведь оно не ограничивается оценкой референта, а скрепляется с ним как со своим постоянным содержанием. У желания появляется смысл. Соответственно, он подчиняет себе и перевод ментальных репрезентаций в метарепрезентации, осуществляемый самосознанием. Если в первоочередном порядке мы желаем быть собой, то и возведение представлений в метапредставления автотелично, то есть имеет собственный смысл. Он заключается в том, что впечатления от окружающей действительности, абстрагированные от вызвавших их явлений, соотносятся друг с другом по общим этим феноменам признакам, помимо оценок, и тем самым оказываются бытующими в-себе, а не только для-нас, собираются в парадигмы, также выступающие сравнимыми между собой и потому замещающими одна другую. Самосознание, спроецированное в мир объектов, схватывает их ex causa finali – в качестве целесообразных, образующих систему. У бессознательного нет глубины, какой обладает смысл, будучи целеполаганием вещей, которое сплачивает их так, что данное объясняется через иное, в чем состоит сущность символообразования. Самосознание структурирует и семантизирует бытие, отпечатывая в нем собственные конститутивные свойства, ищет в нем логику. (Есть ли она у бытия, помимо нашего вмешательства в него, или ее в нем нет, сказать нельзя, ибо само бытие безгласно.)
Отпадающий от непосредственно ощущавшейся среды интеллект выстраивает собственную среду – социокультуру. Шесть ценностей, которыми оперирует мозг, предстают сознанию в виде интерпретируемых величин, семем. Пусть входом восприятия будут феномены культуры: своей в позитивном варианте (S), чужой – в негативном (–S). Тогда позицию амбивалентной ценности заполнит культура как таковая (±S), оппозитивом которой станет природа (S0). Сверхамбивалентное смешение культуры и природы (±S & S0) отменит упорядоченность и в той и в другой (что случается, скажем, во время карнавала), тогда как за гранью этой деградации мира в хаос откроется по контрасту с ней нездешняя реальность, инобытие (– (±S & S0))[307]. Бог производен не от бессознательного, как утверждал по почину Шеллинга Лакан в Семинаре «Четыре основных понятия психоанализа». Идея Всемогущего открывается человеку, сознающему, что обступающее его мироустройство может выродиться в беспорядок, во всеинаковость, и восстанавливающему в интеллектуальном усилии поколебленный уклад по ту сторону подтверждения умствования перцепцией – в свойственном только нашему бытованию мыслительном пространстве «внутреннего опыта». Сознание в своем психическом максимуме есть Бог-в-индивиде.
По контрасту со всеядным, перегруженным избыточными данными чувственным восприятием сознание принципиально экономно в оперировании метапредставлениями. Эта бережливость выражается прежде всего в том, что сознание далеко не всегда прибегает к эксплицитному отслеживанию своих действий, к вдумчивому разбору альтернатив, перед которыми оно поставлено. С мониторингом конкурирует автоматически совершающийся логический вывод[308]. Он сам собой разумеется, не нуждается в критической проверке, так как существует множество ситуаций, в которых функция одно-однозначно соответствует аргументу (без огня дыма не бывает). Силлогистика Аристотеля придала импликативной работе сознания, компенсирующей чрезмерные затраты перцепции, теоретическую ясность. На практике сознание, скупо расходующее себя, пользуется неполными силлогизмами, энтимемами, опуская средний член умозаключения, за счет чего складывается та область, которой Бахтин дал имя «подразумеваемого». Экономичное сознание спонтанно логично в авторегулируемых ментальных процессах. Работу сознания в автоматическом режиме следует отличать от автоматического поведения, уходящего корнями в бессознательное. Второе имеет сугубо прагматическую природу и сводится к жизнеобеспечению организма и к его самозащите. Мозг реагирует на непредвиденные опасности или отдает команды телу, которому чего-то недостает, еще до того, как будет задействовано сознание. Между тем автоматические выводы, предпринимаемые сознанием, не только прагматичны, но и семантически обоснованы (видя красный свет на светофоре, я торможу автомобиль без раздумий, но все же зная, чтó означает этот условный сигнал, в отличие от двух других сигналов светофора, умея расшифровать его сообщение).
Чем автоматичнее активность сознания, тем больше шансов у бессознательного вмешаться в нее. Мозг находится в обратной связи с интеллектом, отзывается на умствование. В этом отклике церебральный субстрат, в котором присутствуют зеркальные нейроны, подражает сознанию. Будучи автоматом par excellence, мозг с особым успехом проникает на территорию сознания, когда оно минимализирует себя, действует по алгоритму, когда два полюса ментальности сходны. Вторжение бессознательного в сознание, рутинно выполняющего свои функции, манифестируется, как хорошо известно из «Психопатологии обыденной жизни» (1901), в речевых ляпсусах и неловких телодвижениях. Мы бываем неудачны также по рассеянности, когда концентрируемся на обдумывании трудной задачи, давая бессознательному волю внедряться в сознание там, где оно в своей односторонней занятости ослабляет неусыпность. Было бы неверно трактовать все эти ошибки вместе с Фрейдом и в стиле его эпохи как непременно символические, как адресующие нас к тайным помыслам совершающих их индивидов. Можно сбиться с шага и споткнуться не по той причине, что мы подавляем запретные влечения, а по той, что без всякой задней мысли попросту не заметили лежащий на дороге камень. И все же Фрейд был прав по большому счету. Интервенирующее в сознание, подражающее ему бессознательное перестает быть нацеленным прагматически и подрывает конкурирующую систему, лишая ее практической приложимости. Faux pas разрушает скоординированную моторику органов нашего тела так же, как lapsus linguae ломает наш коммуникативный контакт с партнерами по общению. За обмолвками и телесными промахами проглядывает Танатос, пресекающий поведенческое отправление жизни. Как было сказано, сознание пробуждается в ответе мозга на риск, которому подвергается самость и который подстерегает любого из нас в качестве травмы рождения. Регресс от сознания к бессознательному ставит нас на порог, на котором первое еще не удалилось от второго.