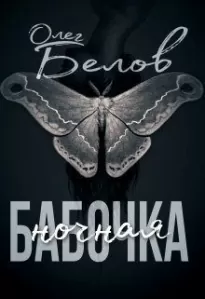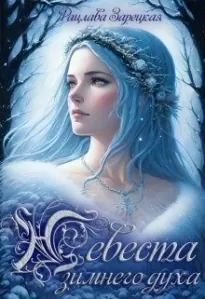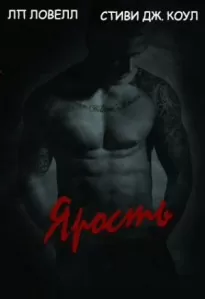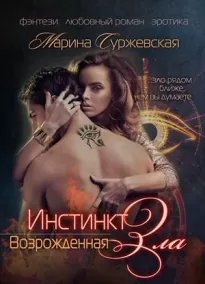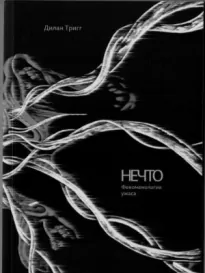Приспособление/сопротивление. Философские очерки

- Автор: Игорь Смирнов
- Жанр: Философия
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Приспособление/сопротивление. Философские очерки"
Ошибки, однако, не только танатологичны, напоминая нам о первотравме, но и исподволь креативны, коль скоро они являют собой замещение нормы. Они могут служить творчеству (о чем без обиняков заявила художественная практика авангарда[309]). Они возвращают нас к той опасности, какой было самое начало нашего бытия-в-мире, продолжившееся вопреки встрече с препятствием. Наряду с Танатосом, в них просвечивает также жизнетворный Эрос. Нам незачем объяснять эротичность бессознательного, обращаясь к крайне сомнительной психоаналитической концепции инфантильной сексуальности, и выводить его танатологичность, как это сделал Фрейд в «По ту сторону принципа удовольствия», из стремления организма, защищающегося от избытка раздражений, перейти в неорганическое состояние (из «принципа нирваны»). Танатос и Эрос непреднамеренно и украдкой аккомпанируют нашему поведению, потому что сознание возникает из них и возвращается к ним, когда бессознательное побуждает его отпрянуть к своему истоку. Повторю: желание быть собой амбивалентно – «я» как объект автоэротично в той же степени, в какой и смертно (у Жоржа Батая, напротив, желание убийственно эротично в направленности на Другого). В «Исповеди» Ставрогина, кишащей стилистической неряшливостью, с одной стороны, и рассказывающей о самоубийстве изнасилованной девочки-подростка – с другой, Достоевский с удивительным проникновением в сущность проблемы ошибок рассекретил их танатоэротическую подоплеку[310]. Если в своей танатологичности бессознательное заставляет нас ошибаться, то в качестве проникнутого Эросом оно отмечает упущения сознания. Мозг, призванный среди прочего быть хранилищем информации, сигнализирует нам о том, что в наших действиях или умственных операциях наметился пробел, нуждающийся в заполнении, о забытом нами (то есть о гипертрофированной экономичности сознания).
Добираясь из приведенных рассуждений до архетипов, следует указать на то, что они не множественны, как это виделось Юнгу, а имеют инвариант: психика в ее антропологическом измерении варьирует в разных воплощениях одну и ту же абстрактную схему второго рождения, нового начала после конца, экстраполируя генезис сознания на всё, что осознается. Идея второго рождения скорее предсознательна, чем бессознательна. Искусство потому и делается, как писал Юнг, преимущественным каналом, по которому передается архетипический смысл, что оно преображает реальность, являя нам ее в обновленном облике, как если бы оно было ее чувственным восприятием, на самом деле нас обманывающим, прячущим в себе перепланировку фактического мира[311]. Чтобы завершить разговор об ошибках, стоит добавить сюда, что среди них есть и такие, которые идут не от бессознательного, а обусловлены нашим порывом наказать себя за какой-либо поступок, не вяжущийся с нашей совестью (я спотыкаюсь о камень, потому что вчера мне пришлось обмануть близкого мне человека). Деавтоматизация действия совершается в этих обстоятельствах трансцендентальным субъектом, карающим себя в предсознании того, что он может быть осужден другими – сообществом, скрепленным моральными взаимообязательствами. Parapraxis здесь – это искупление вины до того, как она сделается очевидной для окружающих, предстанет перед судом коллективного сознания. Перерождение имманентно нам, и мы не хотим никому отдавать его.
В тех случаях, когда сознание полностью выходит из игры, как, например, во сне или при наркотическом опьянении, мозг не просто вмешивается в деятельность интеллекта, а подменяет его. В сновидениях мы присутствуем в-отсутствии, участвуем в событиях, не видя себя, – выстраиваем некую внутреннюю реальность, выключив в процессе ее возведения самосознание[312]. Разыгрываемые при этом сцены, скомпонованные из воспоминаний о некогда приобретенных нами впечатлениях, калейдоскопичны; неясно, почему одни из них сменяют другие. Их последовательность не мотивирована, потому что они воспроизводят сетевую организацию мозга. Будучи нейрональным телом, мозг имитирует во время быстрых фаз сна сознание на театральный манер – в наглядных образах. Биофизические тела, фигурирующие в сновидениях, контрастируют с понятиями (метапредставлениями), которые находятся в распоряжении сознания. Эти онейрические реалии имеют для нас ценность, но их семантика непрозрачна. По какой именно причине они ценны, тоже неясно. Они загадочны. Они вытягиваются в последовательность, у которой нет придающего ей общий смысл завершения, которая не автотелична. Сновидения фрагментарны. Подражая творческим усилиям ума, мозг этим уподоблением и удовлетворяется, не проявляя стремления приложить креативные старания к достижению какой-либо цели. Сновидение потому и как будто нарративно, что линейность нужна ему, дабы показать ее убегание в пустоту (во сне мы часто путешествуем, попадая в пространство, которое тут же исчезает из кругозора). Присваивающий себе чужую функцию, церебральный аппарат порождает фантазии, лишенные как прагматического задания, которое он сам выполняет, когда мы бодрствуем (ведь перед нами ценности в-себе), так и конкретного смысла, присущего умствованию. Перевод наглядных онейрических образов на язык рационального мышления, который предпринял Фрейд в «Толковании сновидений» (1899), противоречит иррациональности абсурдного спектакля, поставленного бессознательным, воспользовавшимся дремотой сознания. Однако, как и применительно к «Психопатологии обыденной жизни», мы не должны лишь зачеркивать подход Фрейда к сновидениям, справедливо усмотревшего в них восстание бессознательного против угнетающего его сознания. Хотя они и комбинируют обрывки нашего жизненного опыта в произвольной манере, не доводя сценическую постановку до конца (ее финал – пробуждение), у них есть всегда одна и та же тема, раз бессознательное ступает на границу с сознанием в попытке его воссоздать. Тема сновидений – они сами в качестве сообщения о том, что сообщение нельзя понять. Они воздвигают преграду самим себе как информационному потоку. Они компрометируют подменяемое ими бодрствующее сознание, рождающееся из смерти (из травмы), тем, что делают смерть рождающейся. Во сне бессознательное зеркальным образом компенсирует свой проигрыш сознанию. Бодрствуя, интеллект способен устранять ошибки, навязываемые ему бессознательным. Спящий же интеллект, безоговорочно уступающий бессознательному свою позицию, не в силах противиться тому, что оно переиначивает Эрос в Танатос, разрушает собственное произведение. Загадочность сна есть нераскрываемость смерти из еще-жизни. Рождающаяся смерть отпечатывается в сновидениях, и погружая спящего в кошмар, в невнятный страх, и демонстрируя ему картины непродуктивного секса (перверсное мучительство «малых сих», которое разбиралось в главе о насилии, – это сон наяву, галлюцинаторное по своей природе действие). Но и тогда, когда в сновидении нет ни того ни другого, оно деструктивно в своей конструктивности, бессвязно и тем самым не позволяет опознать по контексту значения мотивов, вошедших в его состав, что и склонило Фрейда сверхинтерпретировать онейрические образы как символы. Если ошибка – образчик для инновативных отклонений от художественного канона, то на сновидения социокультура отзывается в карнавале с центральной в нем фигурой рождающей смерти и в театре абсурда, подтачивающем логические устои символического порядка. Сознание, озеркаленное бессознательным, платит своему конкуренту той же монетой.
Гипноз – антитеза сновидения. Он возможен, потому что сознанию, конфронтирующему с бессознательным, свойственно сдаваться во сне на милость противника. Но при гипнотическом внушении податливость сознания влечет за собой торжество не бессознательного, а чужого сознания, манипулирующего поступками пассивного лица. Мозг, имитирующий интеллект, допускает, что и сознание станет подделкой – копией умственных установок, навязанных со стороны. Это допущение становится ментальной реальностью в силу того, что упирающееся в «я»-объект самосознание ищет способ, как развязать узел, в котором автоэротичность сплетается с танатологичностью, с потерей субъектного «я». Выход из апорийной ситуации может быть найден в изготовлении самостью уникального объекта (технического, эстетического и проч.), в котором она соприсутствует не умирающей, а рождающейся ex nihilo. Далеко не всякий отваживается на творческое преображение мира не из‐за того, что людям недостает для этого дарований, а из‐за того, что нам приходится взаимодействовать с другими людьми в социальной среде. Проще избавиться от апории не в индивидуальном противоборстве с ней, которое creatio ex nihilo с неизбежностью предусматривает, а в адаптации к обществу, в примирении Эроса и Танатоса за счет жертвенного растворения себя в Другом и приязненного заимствования его сознания. Большинство в обществе загипнотизировано им либо как безликим, анонимным авторитетом, либо как подчинившимся чьей-то персональной воле[313]. Желание быть собой сохраняется, социализуясь, в извращенно-снятом виде – в желании быть как все, которые ведь уже как будто стали собой. Выбравшие этот путь совершают попятное движение к тому ранневозрастному премемориальному периоду, на котором властвующая над ребенком травма рождения заставляет его сознавать не себя беспомощного, а себя в Других, в господах пока еще только опасного для него самого мира, в родителях и воспитателях. Проще говоря: до того как начать помнить себя, мы доверяемся сознанию старших, постепенно усваивая его навыки в игре понятиями, приобщены чужой семантической памяти. Регресс в младенчество не может быть ни полным, ни бесповоротным. Любой человек, живущий заемным умом, в той или иной степени испытывает напряжение между утоленным желанием быть как все и не утоленной, а лишь погашенной жаждой быть собой. Сопротивление социореальности выливается в самые разные формы – от посвящения досуга занятиям для души, сугубо личностным, до криминогенного поведения и вспышек массового революционного недовольства правительственной политикой. От гипноза пробуждаются, как и от сна, освобождаясь, однако не от господства бессознательного, а от самоотчуждения. Ясно, что отказ от исполнения чужой воли, каким бы он ни был по своему выражению, диктуется нам самосознанием, перестающим мириться с тем, что оно было узурпировано коллективным образом мыслей. Мнение о том, что двигателем бунта против репрессивных обстоятельств служит бессознательное, ложно. Даже и противодействие пациента психотерапевту – это отпор, в котором индивид защищает самоотнесенность от вмешательства в нее стороннего авторитета[314]. Мятежно самосознание. Призывая эмансипировать сексуальную энергию от сдерживающих ее запретов, Вильгельм Райх и Герберт Маркузе не более чем выворачивали наизнанку требование тоталитарной социокультуры, которая предписывала искусству изображать развитие нового человека от стихийности к сознательности. И так и сяк предполагалось, что в создателе и носителе социокультуры прячется l’homme de la nature. На самом деле из-под социальной маски проглядывает не зверь, а индивид.