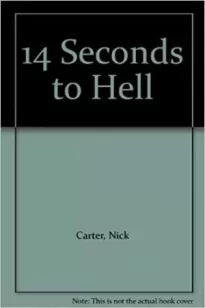Горящие сосны

- Автор: Ким Балков
- Жанр: Историческая проза
- Дата выхода: 2007
Читать книгу "Горящие сосны"
8.
Отбродили ветры осенние, отбедокурили, попрятались в ближних нагорьях, там и пошумливают весело и бездумно, обретя несвойственное им: вдруг да пройдутся по узкой, меж скал, расщелине не в свое время, и тогда скажет уроженец здешних мест, поднявшись на ближние от скал, обильно заросшие высокоствольными темнолистыми кедрами, густо заснеженные горы:
— Никак шайтан спустился с гольца и вселился в эти ветры и теперь пошаливает?..
Но скажет без досады, скорее, с радостным удивлением, точно бы не ожидал ничего другого, а только это, ныне раскрывшееся перед ним. Да и почему бы тут сотвориться иному? Он так долго ждал этого дня, когда можно будет встать на широкие, обитые камусом, легко скользящие по снежному насту, лыжи и ступить на таежную тропу, по первоснежью тяжелую, вязкую, и попытать силу в руках: не подостыла ли, не утекла ли?.. Вон Тишка, сосед, хотя, как и он, крепко сидит на хозяйстве, где всегда нужны работящие руки, заметно сдал, жаловался: что-то в груди саднит, смогу ли нынче подгрести к охотничьей делянке, пошастать по ней? Так-то оно так. Но знает вставший на тропу, что и Тишка очухается, чуток поприслушивается к себе, да и махнет на все рукой и потянется следом за ним. Сроду не было, чтобы кто-то из охотничьего племени в эту пору отсиживался дома. Нет уж! А что болячки замучили, так на них лечение на таежной тропе и отыщется., а не где-то еще… «Но, слава Богу, сам-то я, сам-то еще ничего…» И ощутится в упругом теле прежняя удалость, едва только и сдержит ее, понимая, что незачем попусту растрачивать, путь-то долог… И, распахнув на груди полушубок, подомнет под себя ветер, хотя бы и стосильный, и забубнит в бороду, обильно заросшую сосульками, так что похрустывают они при ходьбе, поскуливают, точно брошенные на снег щенята, от давних лет спустившееся к нему, от деда и прадеда, чудное что-то, мудреное, вроде бы слова из какой-то теперь уже полузабытой песни про разухабистое колобродье ямщиковой тройки да про лихость ее необузданную. О, уж давно те тройки сошли с лица сибирской земли и не украсят ее даже в глухом захолустье, а почему-то помнятся людьми, как если бы сами сиживали в раскошных кошевах и слушали посвист ветра да разгоряченное всхрапывание коней, взмыленных стремительной ездой, будто едва ли не вчера бросили на лядащий кошевной передок хрустнувшие в руках подобно сосулькам, отдающие конским потом, серебряным звоном гуднувшие вожжи. И еще не отошли от той езды и все-то промелькивает в памяти малое самое: и то, как пристяжная, ломая упругую поступь коренника, испугавшись заметенного снегом, широкого и разлапистого волчьего следа, метнулась влево, и он едва удержал ее, а потом и возликовал: о, есть еше сила в руках, не расплескалась. И так тому быть еще долго. А почему бы и нет? Кто он есть на Богом благословенной земле?.. Иль не хозяин, властный любить ее истово и горячо, как того и заслуживает родимая? А вот еще из той, духом русским отдающей малости: на ближнем к реке разворотье, где проселок изгибается круто, подобно выпущенной стреле на излете, кошева черпнула боком снежную упругость и вдруг треснула, чуть не раскололась надвое, а он только захохотал, и сам накренившись, как и устоял на ногах, а потом закричал во весь голос:
— Но, мил-а-и!..
И лихая тройка понеслась дальше, вызывая удивление в старых деревах, осыпавших с изогнутых зеленоватых веток легкую белую пыль.
О, память, славное что-то, с небес опущенное на грешную землю, там и подхваченная человеками, должно быть, для утверждения собственной сути. Но всеми ли используемая разумно?.. Вдруг да и прослышишь про меж людей лукавое и дерзкое, как бы даже в насмешку над теми, кто жил до них на этой земле, поливая ее потом и кровью, чтоб только стояла до веку, горделивая, а вместе грустная, как если бы понимала в грядущих летах померклое, в нелегкой судьбине ее ломающее. И тогда больно сделается на сердце, и скажется горько:
— Господи! Да почему бы подостыло в нас и угасло раньше вздымавшее высоко?! Куда же все подевалось?!
То же скажет и старый бурят, уже много чего повидавший на том и на этом свете, да, да, на том и на этом, они соединены в душе его, и едва ли можно отделить одно от другого, да он и сам не ощущает такого стремления, привыкнув принимать от ближнего и дальнего мира пролегшее и влекущее по жизни как нечто целостное, отпущенное всевеликим Небом. Он верит от собственной души исходящему и нащептывающему про то, что он, прежде чем облечься в нынешнюю форму, пребывал в дальнем мире, где живут святые архаты, встречался с ними, и они расспрашивали его о земной жизни, и он говорил обо всем, что довелось испытать, но говорил какими-то другими словами, про них теперь и не помнит, но, может, даже не так, что-то все-таки помнит, тихое и благозвучное, подобное всплеску утреннего моря, очищенному в недавнее непогодье и как бы изливающему из себя сияние. Это помнит и кое-что еще, но помнит и другое, наказ архатов сохранять тайну, ибо раскрывшись в неподходящем для ее существования мире, она может принести много вреда людям. Старый бурят догадывается и о том, кем он станет, пройдя путь света зеркальной мудрости: обретет ли желанное в мирской жизни чувство покоя или нет, а коль скоро не усматривается ничего, то и тогда не поменяет в себе и будет следовать правилу, дарованному предками, без страха принимать зло, и в малости не колебля на сердце, внешне холодно и чуть ли не рассудочно принимать добро, понимая про его быстротечность. Ибо что есть одно и что есть другое, как не разделимые меж собой половины, они и существуют, потому что не разорвать их и самому сильному на земле.
Агван-Доржи шел по слегка присыпанной снегом лесной тропе, огибавшей дерзко, а вместе как бы даже с уважением: и в угрюмых скалах есть от вселенского духа, от его благостного соизволения, — зависающий над великим морем баргузинский хребет. Монах заметил это, и на сердце вострепетало, сказал:
— О, Будда, совершенны деянья твои! А дух твой, подобно горному ручью, чист и прозрачен и устремлен к обережению истины.
Он сказал так, и спустя время ощутил в этих словах теплое дыхание. Когда же спустился в узкое, меж скал, ущелье, вспомнил, что тут в древние леты скрывалось небольшое племя баргутов, преследуемое воителями Великого Хана, возомнившего себя равным Богам, и, кажется, не от гордости, от другого чувства, недоступного большинству людей, огромного, леденящего душу. Великий хан и хотел бы отказаться от него, но оно было неподвластно ему и влекло все дальше и дальше, и путь сей был отмечен большой кровью. Вот и теперь он не желал бы гоняться за баргутами, что ему это малое племя, иль убавит славу его, имя его уже давно стало подобно грозовому небу угрюмо и дерзко, и не мог. Он видел, что воины устали, а боевые кони едва одолевали снежные сугробы, вязли в них, но подчиняясь всевластному в нем чувству, продолжал преследование. И вот однажды воины настигли племя, заперли в узком ущелье. Повелитель поднялся на ближнюю вершину и со вниманием наблюдал за тем, как преследуемые в отчаянии воздымали руки, теснясь друг подле друга, пока не выехал из людской тьмы, а в ней больше всего было стариков и детей, седоусый воин в темном зверьем малахае и не сказал громко и как бы даже торжествующе:
— Баргуты рождены свободными, и они умрут свободными. Так завещано Богами.
Он вскинул руку и, обращаясь к нависшим над племенем гольцам, крикнул:
— Эй, хан, повелитель мертвых, и да будет проклято имя твое!..
Крик был тяжел и угрюм, Агван-Доржи почувствовал, что вырвался он не только из груди старого воина, но и из его, собственной, он в ту пору находился рядом, только не в обычном телесном виде, а в душе баргута, который уже давно понял тщету земных усилий, если они не вели к вселенскому покою. Агван-Доржи знал, как знал и вождь племени, что в ушелье духов, а это и было то самое ущелье, куда стекались тени не обретших себя в небесной жизни, нельзя возвышать голос или еще как-то выказывать нетерпение: земля тут слабая, чуть что, и стронется с места и обрушит нависающие над ущельем скалы, и тогда настигнет погибель тех, кто пребывает внизу. Но старый воин этого и хотел, и тогда случилось то, что и должно было случиться: восшевелилась земля, вострепетала, и сорванные со скальной поверхности тяжелые острогрудые камни поползли вниз и накрыли племя баргутов. Но еще долго на том месте, куда каменные глыбы обрушились всею своею холодящей тяжестью, было тревожно и стонуще, и серая едучая пыль подымалась над ущельем, и было в ней что-то живое и трепетное, скорбящее о погибшем племени, но, может, даже не так, и вовсе не скорбящее, а радующееся в предощущении неземной жизни баргутов. Во всяком случае, дух Агвана-Доржи, как и дух старого воина, обрел необыкновенную, ни с чем в людской жизни не сравнимую, дивно прозрачную и чистую легкость, за которой уже ничего не стояло, даже памяти.
— Так погибают племена и народы, — сказал Великий Хан, едва успев отвести воителей от ущелья духов, и было в его голосе, что не призналось и близкими ему людьми, что-то томящее, уводящее от земного мира, он как бы прозрел тот путь, который ожидает его впереди, когда он покинет мирскую обитель и воплотится в духе, и это прозрение поколебало в суровой душе его.
Агван-Доржи стоял и смотрел на вольно вознесшийся над долиной Баргузинский хребет и явственно ощущал дерзкую силу, которая исходила от него и была равнодушна к сущему, она как бы жила сама по себе, ни во что не вмешиваясь и не подчиняясь ничьей воле, и эта ее самостоятельность не то, чтобы пугала, смущала, скорее… Смущение можно было увидеть в деревах, они, облегшие хребет, были низкорослы и неветвисты, слабы в своей корневой сути. Агван-Доржи уловил дрожь, истекающую от них, и для этого не надо было ничего напрягать в себе, он нынче как бы слился с окружающим пространством, то малое и сильное, что жило в нем и что в иных народах прозывается душой, а им самим воспринимается как сгусток энергии, способный раздвигать толщу времени и чаще неожиданно оказываться в других мирах, позволял ему свободно обозревать неугадываемое обыкновенным человеческим зрением. Да, он приметил дрожь в деревах и остро пожалел их, как если бы они были сродни ему. Впрочем, они и были сродни, как и все в мире, ослабленном людским неразумьем.
Небо над гольцами с белым шитьем снега, наброшенном на остропикие вершины, все более учернялось, и солнце, едва поднявшееся над землей, сокрылось, и сделалось окрест уныло и сумрачно, малая птаха, до того безбоязно летавшая над головой монаха, забеспокоилась, шибче замахала крылами и потянулась в долину, к речному обережью, где пока еще несуетливо, как бы даже с достоинством пошевеливали ветвями старые ивы. Впрочем, и в них, заматеревших, Агван-Доржи разглядел едва обозначенную в стыдливой оголенности стволов мелкую дрожь, еще не проникшую в их древесную суть.
И сказал монах, поправляя поблекшие бусы на шее, так что они тихонько и как-то хрустяще звякнули:
— Быть большому непогодью, и придет оно с моря, когда растолкается первый лед.
Следовавшая за монахом большая рыжая собака заскулила, как бы в утверждение сказанного, и чуть приблизилась к человеку, и тот, запамятовавший на какое-то время о ней, с недоумением, едва только скользнувшим по тонким морщинам близ узких, темными горошинами, неподвижных глаз, посмотрел на нее.