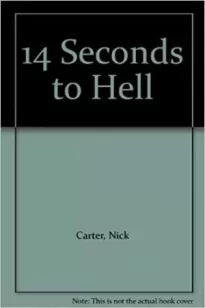Горящие сосны

- Автор: Ким Балков
- Жанр: Историческая проза
- Дата выхода: 2007
Читать книгу "Горящие сосны"
16.
Он открыл глаза и посмотрел на небо, чистое, без единого облачка, и слегка удивился: происходящее в душе у него, казалось бы, предопределялось сумятливой толкотней, которая увиделась в созерцании, когда оно снизошло на него. В созерцании небо было черное и угрюмое. И как же трудно оказалось пробиться чрез него, низко и властно зависшего над землей. Хорошо еще, что ближнему небу противостояло дальнее, высокое, освященное духом Будды. А иначе зло проникло бы и туда. И что же тогда?.. Но об этом не хотелось думать, да мысли и сами уносили Агвана-Доржи в другую сторону, и, когда ему удалось-таки пробиться к дальнему небу, он ощутил на сердце уже привычную для него тихую сладость, она оторвала дух его от мирского тела его и вознесла к неближнему порогу; там обитали святые архаты, они охотно приняли его в свой круг и говорили с ним, но говорили не о земной жизни, а о всесветном противостоянии добра и зла. Были их слова свободны и легки и ни к чему не склоняли, только ко благу, да и то потому, что он сам стремился к этому; осознав себя частью небесного мира, он еще не был способен отряхнуть с ног земной прах, отчего терялся и робел. Но святые архаты как бы не замечали его душевного неустроения и подталкивали к очищению мысли, к избавлению от пут, тягостных для живущих на земле и утративших понимание небесного мира. Но ведь не всегда было так. И там, на земле, иной раз люди подвигали себя к истине так близко, что она, горячая от солнечного сияния, уже не обжигала, а как бы сама, разохотясь, шла им в руки, только и оставалось взять ее. Но в самый последний момент что-то ломалось в людях, отчего они утрачивали прежнюю решимость познать истину, пугались ее и старались поскорее забыть те минуты, что были наполнены мыслью о скорой встрече с нею.
— И был один полюс, — говорили архаты. — Но однажды, наполнясь чуждой ему земной энергией, он раскололся надвое. Эти половины равноценны, только одна наполнена добром, другая — злом. С тех пор они враждуют меж собой. Благословенна будь породившая всевеликого Будду! Когда бы добро и зло не пребывали в постоянном противоборстве и не подводили владельцев высшей кармы к познанию неведомых миров, и небесные дали поглотились бы тьмой незнания.
— Я так и думал, — негромко сказал Агван-Доржи, обращаясь к святым архатам. Он ясно ощущал их присутствие. Но скоро все поменялось, архаты исчезли, и он опять увидел низкое черное небо и услышал насмешливые голоса, и не сразу понял, кому принадлежат они, но минуту-другую спустя однажды случившееся с ним ясно всплыло в памяти.
— А что? — спрашивал, смеясь, русский нойон Гребешков. — Все странствуешь? Встречал одного такого. Тоже бродит по земле. Не пойму, чего ищет. И чего ищешь ты?
— А он и сам не знает, — отвечал нойон Бадма. — Я так думаю, что не знает: мозги повернуты в другую сторону.
Агван-Доржи тогда случайно вышел на них, усталый, он брел по степи и тут в изморозью холодящем сумерке увидел огненно красный костер, а возле него суетливые тени. «Должно быть, тени людей?» — промелькнуло у него в голове, и он поспешил к степному костру, намереваясь отогреть замерзшие кончики пальцев. Странно, он привык к морозам, а вот в руках нет-нет да и покалывало, пощипывало.
— А может?.. Как это?.. Карма у него плохая? — говорил Гребешков. — Небось кем только не был в прежних своих жизнях, и разбойником навроде Тишки Воронова тоже, а?
Агван-Доржи не хотел бы страгивать в душе своей, когда все окрест кажется знакомым, да не так, чтобы при виде ослабленного хлесткими ветрами деревца с черными вывернутыми корнями защемило на сердце, но почему-то сказалось с обидой в голосе:
— Я ступил на тропу странствий не от плохой кармы. И всеблагой Будда странствовал. И путь его был светел. И пришел он к людям и сказал: следуйте за мной, и тогда высохнет чаща страданий, и уж никому не пить из нее.
Бродячий монах говорил еще что-то про Берег времени, к которому тянется человеческое сердце, как если бы, лишь достигнув его, можно обрести душевный покой. Но те, двое, не слушали, разгоряченные вином, и, смеясь, хотели бы насильственно влить в него отравой пахнущий напиток, и не смогли, большой рыжий пес прыгнул одному из них на грудь и повалил, и тот, испугавшись, закричал что-то, а второй… второй отступил, шепча истово:
— Тьфу, нехристи окаянные, свяжись с ними, так чего доброго, сгинешь не за понюшку табаку!
Агван-Доржи ушел от них, и ночное небо было сиятельно от звездного света, и птахи, как бы соучавствуя в его странствии, еще долго кружили над головой.
Монах сидел, притомленный горьким воспоминанием, в изножье Баргузинского гольца, прислонившись спиной к холодному камню. Небо над головой было все так же глубинно и прозрачно, он смотрел на звезды и хотел бы уловить в них могущее подвинуть к прежнему созерцанию, но те, точно бы запамятовав про него, мало-помалу угасали. И вот пришло время, когда небо потемнело, стало ничем не обозначаемо в сознании монаха, и это внесло в душу смущение, и он не сказал бы: отчего?.. Он долго не мог отделаться от смутившего, как если бы за ним скрывалось нечто, сулящее недоброту, и не ему одному, всему сущему. Агван-Доржи прилагал немалые усилия, чтобы расшифровать сей знак, но тщетно, прежде жившее в нем, отчего он умел определиться в мирах и угадать предстоящее, ослабло и ни к чему не подвигало. В нем тусклым ручейком талой воды, бьющейся о камень, простукивала нерешительность, и ему совсем не хотелось открещиваться от нее, она как бы примеряла его с ближним окружением, в частности, с легким, холодящим дыханием Баргузинского гольца; он ощущал это дыхание, прислушивался к нему и улавливал встревожившее сухую каменную огрубелость его, благодаря своей небесной природе ставшего свидетелем множества событий, многие из которых обрушивали истую суть земли, вековечное ее недвижение и делали вялой и дряблой сотворяемую на ней жизнь. Агван-Доржи, уже примиривший исходящие от его человеческой сути желания, все же, лишь только отступило укоренелое в нем, возжаждал постижения истекающего от гольца, зазывного, и, в конце концов, это ему удалось, он как бы даже неожиданно и ничем со стороны не подготовлено ощутил гнетущую усталость гольца и удивился: что же, и в камне прозревается свойственная живому существу слабость? Но удивление испарилось, лишь только осознал свою повязанность с гольцом, о котором прежде, кажется, понятия не имел, принимая все спокойно и почти безучастно. Впрочем, так было не всегда, иной раз и ближнее хватало за душу и выводило из состояния покоя. В нем, в этом покое, постоянно присутствовала напряженность, она то усиливалась, то ослабевала. Грустно! Наверное, чтобы не быть все время одному, монах и приголубил худющего рыжего пса, накормил его, и тот пошел за ним… Впрочем, сам-то пес, пожалуй, принимал перемену в своей жизни по-другому. Агван-Доржи почти не сомневался в этом, полагая, что пес в прежней своей жизни наверняка был человеком, но с неважной кармой, а она зависит не только от носителя ее в настоящем, а и круто и чаще неведомо для живущего повязана с прошлым: от него не спрячешься и за добрыми делами, их попросту не хватит, чтобы очиститься и не быть придавлену суровым гнетом минувшего. Монах теперь не помнит, когда пес сделался ему необходим, но что верно, то верно: от него исходило что-то теплое и доброе, пес умел снять напряжение и отвести беду, а еще он умел слушать. О, это был удивительный слушатель, как бы даже понимающий в человеке, и, коль скоро что-то не нравилось, он поводил длинной, жгуче рыжей мордой, как бы принюхиваясь, и рыл лапой землю, хотя бы и облитую морозом, да так норовисто и упрямо, что человек, в конце концов, обращал на него внимание и начинал теперь уже сам прислушиваться к своим словам и неожиданно отыскивал в них нескладность, а то и подгоняемую злыми апсарами излишнюю суетливость, а от нее ведь один шаг до утрачивания сотворенного им же самим стойкого, ни к чему не влекущего покоя, и замолкал. И тогда пес обронял прежнюю встопорщенность и делался свычно с его сутью ласковым зверем.
Агван-Доржи поднялся с прохладной земли, посмотрел в сторону моря и увидел в нем чуждое зимней заледенелости, нет, не то чтобы проталины, сияющие и черные, переливающиеся разноцветьем, это ему не в диковинку, другое что-то, исходящее из самого нутра моря, как бы даже ослабленность в духе, и поморщился, не понравились собственные ощущения, он даже подумал, что они не отражают истинной сущности моря. Но минуту-другую спустя у монаха не осталось сомнения в своей правоте. Это случилось, когда он разглядел чуть ли не у самого берега серебристо-черного тюленя. Тюлень покачивался на легкой волне промоины и не пытался взобраться на лед или еще как-то проявить свою соединенность с живым миром. В нем все было огрузло, ослабленно, бездыханно. «Он что, поменял форму?» — с тоской подумал Агван-Доржи. И эта тоска, в сущности совсем не свойственная ему, так полоснула по сердцу, что захотелось выть и метаться, подобно загнанному зверю. С большим трудом он удержал в себе вспыхнувшее чувство и подошел к самому окраю мутно-желтой воды и потянулся взглядом к полощущемуся, и явно не по своей воле, но согласно с движением морского течения, в круглой, как совиный глаз, полынье плоскоспинному тюленю, намереваясь понять, что произошло и отчего зверь не подает и слабых признаков жизни, когда услышал чей-то мягкий голос:
— Заметил на спине у тюленя красные пятна? Это следы от остроги. Пропал бедолага!
Агван-Доржи неспеша обернулся и увидел невысокого роста смуглолицего человека с круглыми проворными глазами и тут же вспомнил, что уже встречал его в каком-то поселье. Тот тогда подошел к нему и сказал с вялой усмешкой:
— Слыхал, слыхал о тебе. Вот ты какой, значит?.. — И, помедлив, добавил: — А ведь мы с тобой братья… братья по духу. Хотя, конечно… Кто я? Так, трын-трава. А может, нет?
Он исчез так же неожиданно, как появился, но запомнился бродячему монаху. Было в его ауре что-то светлое и чистое, незамутненное неласковой к нему сансарой. Агван-Доржи мало что примечал в облике человека, но умел определить его ауру, она и помнилась, а не то, во что одет человек и как одет; люди для него были на одно лицо, а меж тем каждый имел свою ауру; по прошествии многих лет, еще раз встретив кого-либо, он менялся в лице, в нем появлялись радость или огорчение, а нередко и то, и другое вместе. Агван-Доржи внутренним взором усмотрел в Воронове памятное, нагнавшее на него смущение: в ауре Тишки наблюдалось нынче удивительное смешение; чего только там не было: и страх перед жизнью, и нежелание, отчетливо выраженное, подчиняться кому бы то ни было, хотя бы и володетелю небесных миров, а вместе покорность, как если бы, однажды ступив на свою тропу, он уже ничего не хотел поменять в жизни, полагая ее доставшейся ему едва ли не по ошибке.
— У меня тут недалеко, под скалой, зимовейка, — сказал Воронов и протянул Агвану-Доржи руку, помог подняться с земли. В глазах у Тишки блистала насмешливость, озорно и как бы даже вызывающе ходил острый кадычок. — Пойдем ко мне, странничек, отдохнешь малость. Небось устал? И чего тебя носит?
Монах подумал, что Воронов, как и те, памятью его обозначившиеся, начнет измываться над ним, и он насторожился, но Тишка уже говорил о другом, он говорил о Байкале, который не сегодня-завтра поломает лед, и тогда подуют ветры, один хлеще другого, а пуще всех расстарается Баргузин и почнет мять ледовую замесь. Но вдруг он замолчал, прислушиваясь к чему-то в себе, потом тихо, с приметной робостью в мягком украдчивом голосе сказал: