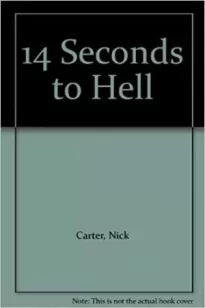Горящие сосны

- Автор: Ким Балков
- Жанр: Историческая проза
- Дата выхода: 2007
Читать книгу "Горящие сосны"
17.
Посреди ночи загрохотало, заухало; небо минуту-другую назад назад чистое и ясное омрачилось, настороженность ощутилась в нем, как если бы оно, предполагая что-то, осознало, что этого не произойдет, и не возрадовалось, и опаска появилась, что в какой-то момент гибельное для земли коснется и его, неохватного, и в нем отметится неизбежность конца. Но ведь сказано в Святом Писании: не будет конца света, пока не будет взят Удерживающий. А Он Господь. И, пока живет в людях хотя бы слабая вера в Него, ничто не стронется на погрязшей во грехах земле, разве что пуще прежнего ослабеет и уж сделается подвластна не только тусклому человеческому разумению, а и самой ничтожной твари, проживающей на ее поверхности, и злым духам, кому до сей поры она успешно противостояла, пропитавшись добрыми людскими помыслами. Но в том-то и беда, что помыслы, прежде переполнявшие сердца человеков, начали оскудевать, захлестываться ветрами скудоумия. О, Господи, образумь грешных, подтолкни на путь истинный, с коего сошли, многие и не ведая того, ибо чаще всего что есть моление сих, редких, как не ублажение собственной плоти, и, даже заходя в церквы, они более думают не о Вседержителе, но о собственной плоти, об ее ублажении, как если бы и легкое соприкосновение с божественной тайной способно вознести их и поставить в един ряд с великомучениками.
О, Антоний не однажды встречался с такими людьми, прозревая в них жестокостью облитое, неправдой вскормленное, от Лукавого, и, случалось, бесстрашно говорил об этом, но его не слушали, смеялись, обзывая тронувшимся с ума, и прогоняли, как если бы им было неместно находиться рядом с ним, улавливать исходящее от него, тихое и благостное; в них же самих не было благости, только упорство, даже если и приводило к еще пущему ослаблению душевной стойкости и смиряемости с сущим, которое есть мир земной и небесный, в изначале служивший лишь благу тишайшего и блаженнейшего.
Да, посреди ночи загрохотало, заухало, и Антоний, дремавший в ближайшем от Чивыркуйского залива прилесье, прислонясь к хилому черемуховому деревцу, уже распустившему ярко белые цветы и упадающему на слабо прогретую от зимнего наваждения землю дурманящим запахом, открыл глаза и посмотрел на зависший над ним искряно-синий Баргузинский хребет, как бы отыскивая в нем всколебавшее предутреннюю тишину, а не найдя, с легким удивлением и совсем по-мужичьи, точно бы и в нем было что-то от здешнего люда, почесал в затылке. К его ногам проскользнула, блестя серебряной чешуей, ближняя от обережья, темно-серая льдина, сокрушив на своем пути пару черемуховых деревцев, подмяв прореженный молодой зеленью желтый травяной покров, и, шипя, остановилась, то ли ослабнув в намерении продвинуться дальше, то ли придержав сей порыв до лучших времен.
— Эк-ка! — сказал Антоний и поднялся на ноги, оглядел льдину, пытаясь понять и в ней, а потом спустился к морю и увидел синь его, расшевеленную шально дующими ветрами, даже и в эту пору горячими и сильными, принесшими нечто от палящего зноя забайкальских степей, и с едва приметной радостью воскликнул:
— А батюшке надоело под ледяным панцирем, вот и стаскивает его почем зря. Дивно сие, волнующе сердце путника!
Открылось небо, прежде пребывавшее в тучах, обвислое, хмурое, воссияла луна, свет от нее был чист и ярок, и виделось далеко окрест, виделось, как подгоняемые ветрами льдины сшибались, обламывались, а про меж них пробивалась сильная и упругая, дерзостно веселая вода; она придавливала льдины, смывая снежное одеяние, и мало-помалу истачивала их, гнала к дальнему, едва прозреваемому отсюда, черному берегу. А когда луна скатилась за ближний голец и на высоком небе проступили первые солнечные лучи, сначала косые и робкие, но с каждой минутой все более укрепляющиеся в духе, который, конечно же, живет и в них, пускай и не всегда приметно для чуждого глаза, ближние к обережью белые пространства едва ли не вовсе очистились ото льда; зелено и освежающе поигривали волны, накатываясь одна на другую, а потом и на само обережье, пронзительно белое от черемухового одноцветья, и вот уже та льдина, что была выброшена на землю, омываемая ими, начала быстро, как бы даже с облегчением таять, так что когда Антоний вспомнил про нее, от льдины уже ничего не осталось. Но он скоро забыл про нее, как забыл и про все на свете, а не только про себя, про себя он забывал чаще, чем это было нужно, только что ж тут поделаешь, вдруг стронется в душе, засумятится и так отодвинет от ближнего, что потом, когда очнется, ему долго не отыскивается места среди людей, тогда и они смотрят на него как на утратившего разум, а проще сказать, как на блаженного, да и он поглядывает на них с подозрением, силясь понять, отчего он среди них, а не где-то еще, ведь там, где-то еще, ему легче дышится. Антоний запамятовал про все совершенно и забрел в воду и, вскинув руки, закричал что-то торжествующее, в сущности и не ему даже принадлежащее, хотя и рожденное в его груди, а кому-то еще, может статься, не живому существу, но чему-то огромному и сиятельному, подобно солнцу, теперь поднявшемуся из-за снежного гольца и осветившему земной мир. Впрочем, что касается солнца, то Антоний и не воспринимал его как нечто не имеющее души, он прозревал ее в небесных лучах. И то сказать, чем бы земля стала без них? Тусклым черным сколком, невесть по какой надобности заброшленным в небесные пространства? Он так полагал, и на мысль эту настраивал свою душу, коль скоро та пребывала в обыкновенном для людского мироощущения здравии и не подчинялась еще чему-то, вдруг растолкавшему его чувства.
Антоний стоял, забредя по колено в студеную воду, и все кричал, кричал, но в какой-то момент очнулся, выйдя из сладкого забытья, и посмотрел окрест и грустно улыбнулся, как если бы ощутил бесполезность недавнего восторга. Однако ж это было не так, и он понимал, что не так, и, когда восторг снова накатил, хотя и уже не такой сильный, как прежде, все ж приятный, разом отодвинув грусть, которая оказалась чуждой его теперешнему душевному состоянию, он зачерпнул ладонями воду и плеснул себе в лицо и рассмеялся. А потом вышел на берег и еще долго сидел, прислушиваясь ко все дальше и дальше отодвигающемуся гуду освобожденных от зимнего наваждения тяжеловатых, со льдисто белым оперением, волн. Чивыркуйский залив менял кожу: заместо серой с белыми рубцами торосов проступала иссиня-бледная и, в какой-то момент помнилось, слабая, открытая всем ветрам, и пожалеть ее не грех. Антоний вздохнул и почему-то вспомнил, как зашел однажды в одинокую заимочную юрту к старому Бальжи; тот поднялся встречь страннику, расстелил перед ним войлок, налил чашку молочно-желтого, с толстой пенкой, чая. Тогда-то и услышал Антоний от старика сказ про Чивыркуя и порадовался свершению доброго, во благо людей, деяния.
— Плохо только, исхудал род Чивыркуя, мой род, — сказал старик Бальжи. — А что дальше?
— А надо ли знать, что дальше? — тихо, как бы отвечая на что-то свое, потаенное, спросил Антоний. — Не лучше ли принимать все, отпущенное смертному, ровно, не страгивая в себе?
— Ты говоришь, как Агван-Доржи, — сказал старик и устало опустил голову.
До их слуха неожиданно донесся глухой стон, сходный с завыванием ветра. Бальжи вздрогнул, несвычно с ним живо поднялся с войлока, на котором сидел, скрестив ноги, сказал:
— Чего-то неладно в тайге, — и направился к выходу из юрты. Антоний, ни о чем не спрашивая, последовал за ним.
Земля была белая, под снегом, по весне затверделым и тяжелым, местами корка льда покрывала его сверху, упругая и сильная, не обламывалась под ногами поспещающих к лесному опушью, лишь слегка потрескивала. Оказавшись под темными ветвистыми деревьями, они прошли немного, когда увидели плавающих в глубоком снегу кабарожек, им никак не удавалось выбраться из снежного месива, и они окончательно выбились из сил и теперь едва ли не равнодушно наблюдали за тем, как люди разгребали снег.
— Беда! Тут же волки бродят, не гляди, что день…
Антоний и сам знал про это, вчера в предвечерье повстречался с ними, стояли волки на тропе, встопорща шерсть, поджидали его. А он и малости не помедлил, понимая про них, как про меньших своих братьев, и продолжал идти, и, когда он приблизился к волкам, те нехотя расступились, огрызаясь.
Старик и Антоний расчистили тропку для кабарожек, и те сиганули в таежную неоглядь.
Антоний сидел на берегу залива и смотрел на взбулгаченную, тускло-синюю воду и улыбался. Но в какой-то момент лицо его приняло как бы даже облитое сухостью, про которую, впрочем, не сразу скажешь, что это, а может, и вовсе не скажешь ничего, ибо она душевного свойства, мало понятного обыкновенному уму, чуть скорбное выражение. Он увидел парящую над водой тень человека, была тень пространственна и легка, странник подумал, что это и есть Чивыркуй; говорил Бальжи, что и сам не однажды наблюдал за этой тенью, коль скоро оказывался на байкальском обережьи.
— Есть люди, которые после смерти живут в отблесках солнца или в грохоте волн, или в шепоте листвы, — говорил старый бурят. — Потому-то всяк в роду помнит о них.
Чивыркуй приблизился к Антонию, как бы желая получше разглядеть его, но в своем теперешнем состоянии он был не способен прозревать и земную малость, а только мог почувствовать ее соседство. И он, мысленно пожелав человеку доброй дороги, превратился в кочковатую тучку и унесся в даль. А скоро и Антоний поднялся с земли и ступил на тропу.
И день и ночь, а потом снова день и ночь он шел по прибрежной тайге, то утеривая священное море из виду, то обретая, и в такие минуты он невольно прибавлял шаг, хотя уже не испытывал радости от обновления природы, а только тихое, в самом себе, удивление. «Дивны дела твои, Господи!..» — восклицал он, увидев на синей льдистой горке, плавающей по морю, нерпичье семейство, греющееся на солнце. А отойдя от того места, еще долго пребывал в изумлении, вспоминая, как резвился куматкан, норовя подальше отползти от матери, но нерпа в последний момент ударом хвоста подвигала его к себе.
И в этот раз, как и в те, прежние, а о них он едва помнил, в его странствии нельзы было отыскать определенного намерения, его просто не было, зато ясно обозначалось постоянное движение к чему-то в себе самом, что-то там, внутри него, ничем не очерченное в сознании, происходило при смене одной картины другою, ну, точь в точь как при смене декораций на современной театральной сцене, бегущих одна за одной, они вроде бы служат чему-то, а попробуй угадай, чему именно, и в какой момент обращение к ним необходимо, а в какой необязательно и даже чуждо сути изображаемого. Да, в Антонии что-то происходило, он как бы приобретал нечто, позволяющее превращаться в самую малость от природы ли отколовшуюся, от мысли ли, вдруг повлекшей куда-то, но тут же и погасшей, едва ли что привнеся в живую человеческую плоть. И он самозабвенно пользовался этой возможностью и нередко воображал себя птицей ли, низко парящей над лесной долиной, пушным ли зверьком, пребывающим в страхе перед грядущей неизбежностью, иль слабым кустарником, взросшим посреди могучих деревьев и уже в самом начале обреченным на медленное умирание. Он не понимал, откуда в нем такая самозабвенность, как если бы ощутил себя ответственным за все несчастья мира, да и не хотел понимать, все в нем, рожденное землей-матерью, влеклось в мир уже самим рождением обреченных на погибель. И он, влазя в чужую шкуру, хотел бы облегчить их земное существование, но немногое зависело от его желания, а уж тем более от воли, которую в себе не испытывал и даже не сознавал, есть ли она от сути живого существа рожденная иль от его небесного сколка.