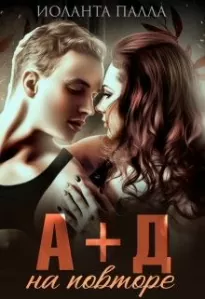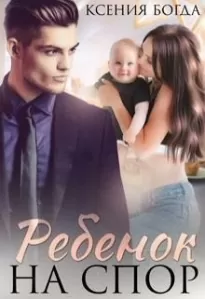Дальняя гроза

- Автор: Анатолий Марченко
- Жанр: Военная проза / Советская проза
- Дата выхода: 1987
Читать книгу "Дальняя гроза"
Накануне
Ночное купание Тим Тимыча в Урвани не прошло даром: он занемог и слег в постель. Правда, уложить его было непросто. На все увещевания матери — такой же порывистой, неутомимой, как ее сын, — Тим Тимыч упрямо и категорически ответствовал, что никакая у него не простуда, а просто играет кровь и что утихомирить ее можно лишь пребывая на ногах. Совладать с Тим Тимычем смогла лишь высокая температура: когда ртутный столбик подскочил до тридцати девяти, он забеспокоился.
— Придется лечь на денек, — заплетающимся, как в бреду, языком сказал он. — Но только на денек, ни секундой больше.
— «На денек», — сердито передразнила мать. — Ныряй под одеяло и помалкивай. Сейчас тебе сушеной малинки заварю. А не будешь слушаться — улепетнут твои дружки в армию — только гудочек от их эшелона и услышишь. А тебя, горемыку, на инвалидность...
— Ну, ты, мам, даешь, — всерьез заволновался Тим Тимыч. — Каркать-то зачем? Да я к утру буду как штык...
С этими словами Тим Тимыч забрался на старый диван, выпиравшие пружины которого остро ощущались всей спиной, и, чувствуя неловкость от своей беспомощности и от того, что не он сам, а мать укрывает его стеганым одеялом, попросил:
— Только ты Вадьке и Мишке ничего не говори, будут зубоскалить. Я за ночь эту температуру поборю...
— Эх, отца с нами нет, — вздохнула мать, тайком от Тим Тимыча смахивая слезу. — Он бы тебе твою температуру ремнем в один момент сбил.
— Как же так, мам, тридцать девять, а морозит?
— А очень просто, — объяснила мать и провела грубоватой, шершавой ладонью по воспаленному лбу Тим Тимыча. — Значит, еще выше подскочит. Придется доктора вызывать.
— И не вздумай! — вскинулся с постели Тим Тимыч.
— Ладно, ладно, лежи смирно, я тебя по-своему лечить буду. Травами. Как бабушка твоя.
— Не в этом дело. Это же чистое знахарство, — запротестовал Тим Тимыч. — Я, мам, категорически против. Лечи по всем правилам нашей медицины. Ты, мам, у меня совсем темная. Наша советская медицина — лучшая в мире. И никаких трав не признает.
— И у кого ты болтать научился? — рассердилась мать. — Небось у Кешки Колотилова.
— При чем тут Кешка? — сердито выпалил Тим Тимыч, враз вспомнив все, о чем разглагольствовал Кешка на берегу Урвани.
Мать, казалось, пропустила все это мимо ушей. Она достала из старенького комода, с которого уже слоями облезла краска, стеклянную банку с сушеной малиной и разожгла керогаз, от которого сразу же потянуло керосиновым чадом.
— А на отцову могилку я и без тебя поеду, — послышался из кухни ее вдруг изменившийся и ставший глухим и скрипучим голос. — Когда я тебя-то дождусь? Теперь на три года ты не мой, а государственный.
— Государственный — это ты здорово сказанула, мам, — цокая зубами, откликнулся Тим Тимыч. — И ты, мам, обязательно съезди.
— Далеко ехать-то, аж в Карелию. — От одного предчувствия такой дальней поездки мать зябко поежилась. За всю свою жизнь она не выезжала из города дальше узловой станции Прохладная, да и та, казалось ей, существует где-то в другом мире. — С тобой бы вдвоем...
— Так я, мам, как отслужу, мы с тобой съездим. Подумаешь, три года. Пролетят, не заметишь, вот и всех-то делов.
— Эх ты, дите! — вздохнула мать. — Ничегошеньки ты еще в этой жизни не смыслишь. И зачем вздумали таких молокососов в армию призывать? То ли дело раньше: у человека уже семья, хозяйство, он на своих ногах, а потом уж и в армию. Соображали, что к чему. А теперь птенцов желторотых — да в шинель. Какие из них вояки?
— Не в этом дело, — уже борясь со сном, пролепетал Тим Тимыч. — Ты за нас будь спокойна... И радио слушай...
На миг перед его воспаленными глазами закачались под тяжким ветром, застилая небо и погружая всю землю в зыбкую темноту, великаны-сосны. Оттуда, со стонущей от ветра сосны, прогремели частые выстрелы финской «кукушки», и перед Тим Тимычем явственно, как живое, возникло лицо отца. Все в его облике было сейчас бесконечно знакомым и родным, все, кроме глаз, которые всегда светились теплом и добротой, а сейчас горели гневно, испепеляюще. Отец еще стоял на ногах, не выпуская из рук винтовки, оторопело смотрел на Тим Тимыча, будто не понимая, почему он не хочет его спасти. И вдруг земля вздыбилась под отцом и он поднялся вместе с нею и стал медленно клониться к ней, как клонится поначалу подрубленный дуб, и, рухнув на окоченевшую вмиг траву, исчез в огненной тьме...
Тим Тимыч тяжко застонал и затрясся под одеялом.
— Ты потерпи, потерпи, сынок, — донеслось до него издалека, будто мать шептала ему эти слова откуда-то с высоты небес и каждому слову нужно было прорваться через толщу облаков, прежде чем коснуться ушей Тим Тимыча. — Запей аспирин малиновым чаем...
К утру Тим Тимыч, вопреки своим заверениям, был вовсе не «как штык». Температура упорно вцепилась в него, словно хотела доказать, что не все зависит от воли человека, даже от такой железной воли, какую в себе изо дня в день вырабатывал Тим Тимыч. Пришлось вызвать доктора.
Доктор — сухонький старичок с взъерошенными, точно собиравшимися взлететь, бровями — долго прослушивал Тим Тимыча стетоскопом, каждый раз удивленно покачивая клинышком-бородкой, прикладывал костлявые пальцы левой руки к горячей груди Тим Тимыча и стучал по ним пальцами правой, отчего получался звук, похожий на стук кастаньет во время исполнения испанских танцев. Танец с кастаньетами Тим Тимыч видел однажды в летнем театре. На полукруглой эстраде со вздымавшейся над ней обшарпанной раковиной выступали тогда артисты какой-то заезжей оперетты. Досмотреть до конца это представление Тим Тимыч не пожелал, так как сразу же зачислил оперетту в разряд никудышных и несерьезных представлений. Все эти шутовские канканы и куплетики, по его убеждению, не выдерживали никакого сравнения с военными маршами в исполнении духового оркестра. А вот сухой и настырный звук кастаньет врезался в память Тим Тимыча, хотя время от времени отравлял ему настроение.
— Прекратите! — бредил Тим Тимыч, когда доктор настойчиво повторял свои манипуляции, простукивая ему грудную клетку. — Я не люблю оперетту!..
Доктор изумленно поглядывал на него, но так как у Тим Тимыча глаза были плотно закрыты красными, вспухшими веками, а сам он не пытался пояснить, чем вызван его столь бурный протест, то он и продолжал простукивать выпиравшие из-под туго натянутой загорелой кожи ребра Тим Тимыча.
— Если к завтрему температура не понизится — придется положить в больницу, — хмуро изрек доктор визгливым тенорком, не глядя на испуганную, пригорюнившуюся мать. — Вполне вероятно, что у него воспаление легких.
— Никаких больниц! — вдруг почти здоровым голосом выкрикнул Тим Тимыч и открыл глаза. — И никаких воспалений! Легкие у меня закаленные! Я на медкомиссии так дунул, что цилиндр вылетел!
Доктор испуганно воззрился на Тим Тимыча через выпуклые стекла очков.
— Молодой человек, — от укоризненного тона голос доктора стал еще более визгливым, — да будет вам известно, что я окончил медицинский факультет Санкт-Петербургского университета еще до революции...
— Оно и видно, что до революции, — ворчливо перебил ого Тим Тимыч.
— Тимка! — грозно предостерегла его мать.
— Если вы не будете лечиться, — угрожающе сказал доктор, выписывая рецепты, — то ваши могучие легкие станут очень хилыми. А что касается моего опыта, молодой человек, то я поставил на ноги не одну сотню людей. И заметьте, обхожусь без рентгена и прочих современных новшеств.
Всю ночь Тим Тимыч стонал, метался в постели, что-то выкрикивал угрожающее, будто наяву боролся с невидимым противником, а к утру взмок так, будто его окунули в Урвань.
— Вот теперь пойдешь на поправку, — облегченно вздохнула мать. — Уразумел, какая сила в малине?
Она принесла Тим Тимычу кружку горячего молока с медом и поставила ему на табуретку рядом с диваном. Табуретку делал отец еще тогда, в той счастливой жизни, когда они жили втроем, Тим Тимыч был маленький и не было еще войны с белофиннами. Мать очень дорожила этой табуреткой и разрешала садиться на нее только по праздникам или же самым желанным гостям. А так как гости в ее доме были очень редки, то как-то зимой на табуретке сидела классная руководительница Антонина Васильевна, которая приходила к ним, чтобы всерьез поговорить с матерью о том, что у ее сына из рук вон плохи дела с литературой и русским языком.
— Он прекрасно знает алгебру, физику, химию и даже астрономию, — удобно устроившись на табуретке, торопливо и с восхищением говорила Антонина Васильевна, словно спешила сообщить исключительно приятную новость и как бы опасаясь, что им кто-либо помешает. — Иными словами, у вашего Тимы огромная тяга к точным наукам. И это, конечно, не вызывало бы отрицательных эмоций, если бы... Дело вот в чем. — Антонина Васильевна хотела быть как можно деликатнее. — На уроках литературы у вашего Тимы будто язык отнимается. Подкреплю это примером хотя бы последних занятий. Я задала классу выучить наизусть отрывок из «Разгрома» Фадеева. Чудесный писатель, прекрасный роман! Это то место, когда отряд Левинсона попадает в болото, в засаду. Такой трагический момент! Так ваш Тима запомнил только одну фразу: «Молчать! — вскричал Левинсон, по-волчьи щелкнув зубами и выхватив маузер». И все, представляете?
Тимкина мать сокрушенно покивала головой, сопровождая этими испуганно-печальными кивками почти каждое слово Антонины Васильевны, особенно когда она цитировала «Разгром», хотя не имела ни малейшего представления ни о Фадееве, ни о его книге. Она зачарованно смотрела на вдохновенное лицо учительницы, страдала оттого, что Антонина Васильевна была недовольна, и радостно оживала, когда та хвалила сына то за пятерку по физике, то за десятки в мишенях на занятиях по военному делу. Больше всего мать боялась, что Антонина Васильевна не успеет ей все рассказать до прихода Тим Тимыча, и потому суетливо повторяла одни и те же слова:
— Вот я уж ему... Ишь, какой умный...
Но именно эти слова и настораживали Антонину Васильевну, она тревожно всматривалась в усталое лицо матери, мысленно отмечая, что Тим Тимыч — ее копия, и взмахивала руками:
— Нет, нет, никаких мер принуждения, никаких наказаний! И не вздумайте! Его надо убедить, понимаете, убедить, что современный красный боец, а тем более командир, — это человек высокого интеллекта и литература должна быть спутницей всей его жизни. А какие взгляды у вашего Тимы? Вы знаете, что он мне заявил? Литература, говорит, это для развлечения, когда у человека много свободного времени. Вы представляете, Анна Филипповна, как узко он смотрит на духовные богатства человечества и как негативно воспринимает воспитательную роль литературы, представляете?
— Представляю, очень даже представляю, Антонина Васильевна, — торопливо соглашалась мать и снова твердила свое: — Вот я уж ему... Ишь, какой головастый...
А когда Тим Тимыч поздно вечером возвратился домой, мать встала перед ним как воплощение кары за страшные грехи.
— Ты почему это по литературе двойку схватил?
— По литературе? — озадаченно переспросил Тим Тимыч, пытаясь сообразить, каким образом мать пронюхала про эту несчастную двойку. И, набравшись храбрости, мрачно и решительно ответил: — Литература, мама, мне ни к чему. Я вот уйду в армию и там останусь.