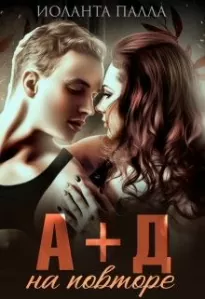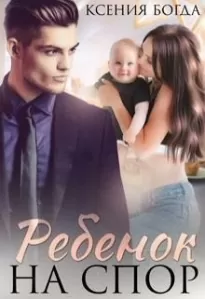Дальняя гроза

- Автор: Анатолий Марченко
- Жанр: Военная проза / Советская проза
- Дата выхода: 1987
Читать книгу "Дальняя гроза"
Кешка, Тося и луна
Вышло так, что одним из уцелевших во время бомбежки эшелона орудий было то, которым командовал Иннокентий Колотилов.
Когда «юнкерсы», облегчив себя, сбросили бомбы и, злорадно выставляя свою безнаказанность, ушли за горизонт, всюду — и на полотне дороги со вздыбленными, исковерканными рельсами, и в ближней роще, где в пламени метались березы, — нависла тяжелая, опаленная солнцем тишина, прерываемая стонами раненых и паническим ржанием коней. Если во время бомбежки стоял грохот, истерически выкрикивались команды, перемешанные со злой руганью, то сейчас люди, придавленные всем происшедшим, замкнулись, ушли в себя и будто онемели.
Оправившись от паники, бойцы начали сгружать орудия с платформ и подтягивать их к большаку, который то круто уходил от железной дороги, то еще теснее прижимался к насыпи.
Первая бомбежка горячей взрывной волной разверзла восприятие жизни на две непримиримые, враждебные друг другу части: на мир и на войну. Все, что было с бойцами до взрыва первой бомбы, было лишь условным, а потому во многом неверным ощущением войны, но еще не самой войной, было тем мирным, самоуверенным и беспечным состоянием, когда человек воспринимает опасность смерти как нечто нереальное, непосредственно к нему не относящееся. Это были еще лишь мечты о том, как мужественно поведет себя человек в бою, словно бы застрахованный от вражеских пуль и осколков, а не сама реальность. В настоящем же бою человек, впервые опаленный смертным дыханием войны, вдруг открывает в себе новые черты характера. Открыв их, он либо восторгается, либо ужасается этими чертами, либо просто смиряется с ними как с фатальной неизбежностью.
Совершенно неожиданное открыл в себе и Кешка Колотилов, когда три «юнкерса» сбрасывали на эшелон бомбы. Распластавшись на горячей траве и пытаясь впечататься в землю, чтобы спастись от гибели, Кешка вдруг почувствовал, что его обуял страх — отчаянный страх за свою жизнь. Сейчас, в эти минуты, весь мир — и солнце, и людей, и всю землю — затмила от него единственная, ошеломляющая своим могуществом мысль о спасении, о том, чтобы выжить в аду бомбежки, знать и чувствовать, что по-прежнему, как и до взрыва бомбы, бьется сердце, дышат легкие, видят глаза, слышат уши, повинуются ноги и руки.
«Сейчас осколок вопьется в тебя — и все! — в ужасе взвихривались мысли в голове у Кешки. — И все! И тебя не будет! Небо будет, и солнце будет, и Анюта будет — а тебя не будет! Ты исчезнешь, превратишься в прах, и вороны будут каркать над тобой...»
Сейчас для него перестало существовать все — и бойцы, сновавшие возле горящего эшелона, и сам эшелон, и все, что происходило на земле в эти пугающие своей мрачной бесконечностью тягостные минуты бомбежки. Существовал только он сам, и существовало его стремление наперекор судьбе остаться в живых, существовало то, что было нацелено лично против него — гитлеровские самолеты и бомбы низвергающиеся на эшелон, то, что стремилось стереть его, Кешку Колотилова, с лица земли.
Самолеты уже скрылись, а Кешка все еще не мог поверить в реальность того, что небо вновь не обрушит на него смерть, и потому не мог заставить себя подняться с земли. Бойцы уже сгружали гаубицы, впрягали в передки уцелевших коней, перетаскивали подальше от горевших вагонов ящики с боеприпасами, мешки с овсом, катили железные бочки с горючим, а Кешка все еще прижимался к земле, будто надеялся на то, что она укроет его и спасет от новой бомбежки.
Все были заняты делом, казалось, Кешку никто и не замечал. Наконец он медленно, озираясь по сторонам, поднялся, ощущая уже не столько страх, сколько обиду на то, что никто даже не поинтересовался, что с ним произошло. «А если бы ты был ранен или убит? — с горечью подумал Кешка. — Никому, оказывается, ты не нужен. Песчинка во Вселенной!»
Однако долго размышлять было некогда — Кешку уже втянуло в тот водоворот, который всегда образуется после воздушного налета и в котором необъяснимо смешиваются растерянность и собранность, радость от того, что беду пронесло, и горечь от того, что уже лежат ничком — кто распластав руки и ноги, кто сжавшись в комок, будто не хватило земли, чтобы лечь по-человечьи свободно и раскованно, — первые жертвы, те самые ребята, которые только что смеялись и пели, ругались и курили, балагурили о девчатах. Странно, что сейчас Кешку не мучил вопрос: кого убило? Не потому, что он не хотел об этом знать, а потому, что страшился ответа на этот вопрос, как бы опасаясь, что, называя фамилии убитых, вдруг назовут и его. А может, те, кто лежит сейчас на истекающей горьким дымом земле, так же, как и он, не решаются встать?
Увидев, что пятеро бойцов, упираясь сапогами в сыпучий грунт косогора, спускают гаубицу вниз, к большаку, Кешка подбежал к ним и с налету пристроился к свободному месту у станины. Казалось, никто не обратил внимания на его внезапное появление, а сам он вначале даже не взглянул на лица бойцов. Они с большим трудом, напрягаясь так, что на спинах под черными от пота гимнастерками вздувались мускулы, едва сдерживали тяжелое, неподатливое орудие, готовое своенравно вырваться из их рук.
Когда орудие наконец оказалось на пыльном ухабистом большаке, взмыленные бойцы повалились на траву. Только теперь Кешка понял, что это его гаубица и его расчет. Значит, повезло ему с первого дня войны! Но радостное чувство охлаждала мысль о том, что все, что происходило во время бомбежки, могло произойти и без его участия. Ведь он был занят самим собой, и за все время — с того момента, как резко затормозил паровоз, растревожив окрестности протяжным, словно молящим о пощаде гудком, как прозвучала команда «Воздух!», и до той минуты, как «юнкерсы» растаяли в небе, — он, Кешка, не отдал своему расчету ни единого распоряжения. Сейчас, растерянно грызя стебелек травинки, он ждал упреков, язвительных насмешек, но никто не сказал ему ни слова.
— Вот и приехали, — тяжко вздохнул кто-то из бойцов. — И пальнуть не успели.
— Зато он нам разгружаться помог. Не прилети он, сколько бы копались, — усмехнулся наводчик Саенко — высоченный костлявый боец, которому во время наводки орудия никогда не удавалось укрыться за щитом.
— Да, влепил он нам, — сказал заряжающий Тихомиров. — Из батареи двух орудий как не бывало. И стрельнуть не успели.
— Злее будешь, — жестко проронил Саенко. — Небось мамку с тятькой вспомнил?
— А ты небось не вспомнил? Ну, герой! — разозлился Тихомиров.
— Еще как вспомнил! — весело откликнулся Саенко. — И не только тятьку с мамкой. Господа бога вспомнил!
«И они еще шутят, зубоскалят», — с неприязнью и удивлением подумал Кешка, вслушиваясь в этот разговор.
Мысли его прервал возглас старшего на батарее Селезнева — молодого поджарого лейтенанта, вдоль и поперек затянутого новенькими, сверкающими лаком и при каждом движении скрипящими ремнями. Лейтенанта выпустили из училища досрочно, всю дорогу, пока ехали к линии фронта, он петушился, командовал звонко, азартно. Сейчас голос его осел, и сам он как-то обмяк, будто враз постарел. Но ремни все так же скрипели, и он то и дело резким движением больших пальцев рук разгонял складки на новенькой гимнастерке, настырно собиравшиеся под ремнем.
— Командиры орудий, ко мне! — Эта команда, столько раз повторявшаяся в том, теперь уже не существующем, мирном времени, прозвучала сейчас как нечто противоестественное тому, что происходило вокруг.
Горели теплушки, как-то странно накренившись, безжизненно застыл на рельсах паровоз, все еще дыша остатками пара; беспокойно прядали ушами и нервно встряхивали гривами кони; недвижно, будто в непробудном сне, лежали убитые. И потому до Кешки не сразу дошел смысл команды; он услышал ее, но не воспринял как требование, относящееся к нему. В то время как двое сержантов из четырех (один командир орудия был ранен во время налета) уже стояли перед старшим на батарее, обозначая собой максимум внимания, Кешка продолжал безучастно сидеть на станине гаубицы.
— Командир третьего орудия! — раздраженно воскликнул Селезнев. — Колотилов! Где Колотилов? — нетерпеливо словно от наличия Колотилова зависел исход боевых действий, повторил он, и только теперь Кешка, будто возвратившись на землю из небытия, понял, что зовут именно его.
— Колотилов, вам особое приглашение? — ядовито спросил старший на батарее, когда Кешка подбежал к нему.
Кешка молчал, глядя прямо в глаза старшему на батарее, и тот осекся, то ли остановленный этим жалким вопрошающим взглядом, то ли не имея возможности развивать свою мысль о последствиях неисполнительности в условиях фронтовой обстановки.
Старший на батарее заговорил совсем иначе, чем это было в том, мирном, времени. Каждое его слово звучало сейчас как откровение, таящее в себе опасность. Он передал приказ комбата сосредоточиться на окраине деревни, название которой тут же улетучилось из Кешкиной головы, оборудовать огневую позицию и ждать дальнейших распоряжений. На месте вынужденной разгрузки оставалось лишь с десяток бойцов, которым предстояло похоронить убитых.
— А та станция, где мы должны были разгружаться, уже у немцев, — шепнул Кешке словоохотливый командир первого орудия Лыков, когда батарея, поднимая сухую пыль, наконец вытянулась на большаке.
Кешка нервно стрельнул по нему глазами, как бы прося его не продолжать делиться с ним своими страшными новостями, но тот не унимался:
— Что́ станция, я тебе такое скажу... — Он перешел на шепот: — Немцы Минск взяли...
— Чего мелешь? — оборвал его Кешка. — Сорока на хвосте принесла?
— Мелко плаваешь, Иннокентий, — покровительственно похлопал его по плечу Лыков. — И нос задираешь. Здесь тебе, малыш, не рота писарей. Здесь, между прочим, стреляют.
Кешку передернуло от такой наглости. Привыкший ко всем относиться с иронией, он не переносил такого обращения с самим собой.
— И ты, Иннокентий, запомни, — продолжал накалять его Лыков. — Тебе со мной тягаться бесполезно. И в высшей степени бессмысленно. И по части того, что происходит на фронтах. И ежели придется по танкам прямой наводкой. Ты, дорогуша, запомни: я или голову сложу, или вернусь домой с Золотой Звездой Героя. А ты, Иннокентий, создан только для мирной житухи. Загрызет тебя война, малыш.
— Не тебе об этом судить! — запальчиво возразил Кешка.
— Отчего же не мне? — удивился Лыков, одарив Кешку белозубой, ядреной улыбкой. — Думаешь, не видал, как ты расчетом командовал?
— Ты о чем? — насторожился Кешка.
— А все о том же, — многозначительно протянул Лыков. — О бомбежке...
Батарея вытянулась по большаку, послушно повторяя все его изгибы, и Кешка поспешил за своим орудием, радуясь тому, что может прервать неприятный для него разговор.
Дорога казалась длинной, нескончаемой. Самое неприятное было то, что все окружающее — и лесные рощи, и перелески, и крутые овраги, и дальние деревушки — таило в себе неизвестность. Вроде бы двигались по своей земле, но уже не по привычной — мирной, спокойной и доброй, а по тревожной, знобящей и тяжелой. Бойцы шли понуро, настороженно, часто поглядывая на небо.
Вражеские самолеты в этот день больше не появились. Уже после полудня батарея втянулась в узкую ухабистую улочку будто напрочь вымершей деревеньки, примостившейся на косогоре. Последовал приказ оборудовать огневую позицию на окраине, в яблоневом саду. Яблони были старые, сквозь тяжелую листву они протягивали к небу коряжистые, узловатые ветви.