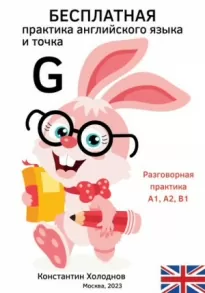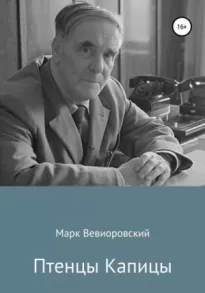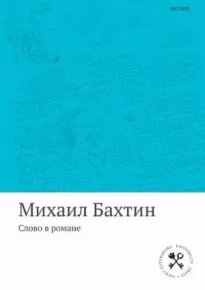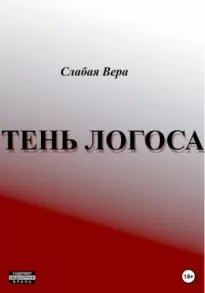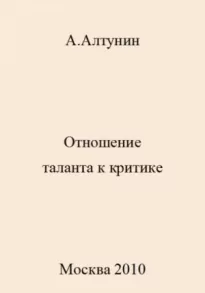Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени

- Автор: Рубен Будагов
- Жанр: Языкознание
- Дата выхода: 1978
Читать книгу "Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени"
3
Проблема мотивировки слова, остро поставленная в 1916 г. в «Курсе» Соссюра, в действительности является очень старой проблемой, которая интересовала человека с давних времен. Уже в самом элементарном словообразовании эта проблема дает о себе знать. Прилагательное деревянный кажется нам более мотивированным, чем существительное дерево, подобно тому как англичанину wooden ʽдеревянныйʼ представляется мотивированным на фоне существительного wood ʽдеревоʼ. Но человек издавна хотел понять мотивировку не только производных образований, но и исконных слов.
В своей «Истории греческого языка» А. Мейе, основываясь на данных языка Гомера, предложил различать «слова-знаки» (les mots-signes) и «слова-понятия» (les mots-forces), буквально «сильные слова». Первые употреблялись у Гомера как слова, отношение к которым со стороны говорящих и слушающих обычно бывало нейтральным. Вторая же группа слов обнаруживала заинтересованность говорящих в том, о чем они говорят, их желание оказать с помощью слов воздействие на слушающих. Так, например, слова типа upnos ʽсонʼ у Гомера выполняли не только номинативную функцию, но и передавали убеждение говорящих в том, что будто бы существует особая сила, вызывающая сон. Само слово upnos ʽсонʼ получало уже не словообразовательную (грамматическую) мотивировку, а своеобразную идеологическую мотивировку, обусловленную уровнем научных знаний эпохи Гомера. Если учесть, что подобных слов тогда было немало, то разграничение, предложенное Мейе, представляет бесспорный интерес[101].
Дело даже не в том, прав ли А. Мейе в каждом отдельном случае, и не в том, насколько удачен термин le mot-force ʽслово-силаʼ в отличие от le mot-signe ʽслово-знакʼ. Меня интересует другое: стремление человека с давних времен употреблять слова не только как условные номинации (в известной степени в процессе коммуникации это неизбежно), но и как номинации, активное отношение к которым человек не может и не хочет скрывать. В этом уже тогда обнаруживалось стремление дать своеобразную, ту или иную мотивировку словам, в особенности словам, которые в наше время станут называться «словами-ключами» определенной эпохи.
Хотя знак односторонен, а слово двусторонне, как двустороння и грамматическая категория, все же и в пределах двусторонних категорий, которыми оперирует любой язык, имеются единицы, семантически более открытые, и единицы, семантически менее открытые. В этом плане всем широко известно еще со школьных времен противопоставление слов самостоятельных и служебных. Они различаются по ряду признаков, в том числе и по признаку соотнесенности значения и знака. У слов самостоятельных (в школьной традиции «знаменательных») функция значения подчиняет себе функцию знаковости, у слов служебных, наоборот, функция знаковости как бы отодвигает на второй план функцию значения.
В свое время один из известных психологов последовательно различал «язык-внушение» (le langage suggestion) и «язык-знак» (le langage signe) в зависимости от того, в какой сфере функционирует язык и насколько сознательно люди пользуются своим родным языком. У больших писателей язык обычно выступает как «язык-внушение», у просто говорящих – как «язык-знак». В свою очередь у французских романтиков первой половины прошлого столетия язык был ближе к идеалу «языка-внушения», чем у французских классиков XVII столетия, манера выражать мысли и чувства у которых «характеризовалась бесстрастностью».
Градации проводятся и в пределах общелитературного языка: когда мы сообщаем о хорошей погоде, наш язык ближе к типу «языка-знака», когда же мы рассказываем о взволновавших нас событиях, наш язык вольно или невольно приближается к типу «языка-внушения»[102]. Таким образом, хотя все национальные языки оперируют и в лексике, и в грамматике двусторонними единицами, в самой этой двусторонности может выделяться либо категория значения, либо категория знаковости. Больше того. В процессе своего функционирования язык в целом в состоянии обращать на себя внимание (тогда он приближается к типу «языка-внушения») или не обращать на себя внимание (тогда он приближается к типу «языка-знака»).
Нередко приходится слышать, что в эпоху научно-технической революции сам язык превращается в чисто техническое средство, в «язык-знак». Он только называет, только утверждает или отрицает, избегает всяких «сантиментов», стремится быть точным и лаконичным. «Язык-знак» вытесняет «язык-внушение». Таково, по мнению многих, «требование эпохи». При всей кажущейся неотразимости подобного заключения, оно по существу своему поверхностно, ошибочно. Само требование точности языка приводит к тому, что говорящие и пишущие люди невольно начинают обращать больше внимания на то, кáк они говорят и кáк они пишут, чем они это делали раньше, т.е. обращают внимание на сам язык. Все это вольно или невольно вовлекает язык в сферу «языка-внушения».
Сталкиваются две противоположные тенденции: одна из них, упрощая язык, движет его по направлению «к языку-знаку», другая, – обращая внимание на способ выражения мыслей и чувств людей в современном обществе, тем самым влечет язык по направлению к «языку-внушению». К тому же резко увеличивается удельный вес научной терминологии в системе современных литературных языков. Термины же формируются сознательно. Столь же сознательно обычно осмысляется и внутренняя форма каждого термина. Из менее заметного средства общения язык сам по себе становится средством более заметным. Он требует к себе большего внимания, чем раньше, до эпохи научно-технической революции. К тому же и художественная литература с ее «языком-внушением» не только не сдает своих позиций в период НТР, но и расширяет их, если сама НТР совершается в социально-благоприятных для народа условиях. Это последнее обстоятельство важно во всех отношениях, в том числе и для судьбы национальных языков.
Итак, если тенденция к стандартизации влечет язык к типу «языка-знака», то противоположная тенденция, обусловленная многообразием материальных и духовных потребностей людей нашего времени, обогащает национальные языки, делает более разнообразными их стилистические регистры и влечет языки к типу «языков-внушений». Лингвист не имеет права упускать из виду ни первую, ни вторую из этих тенденций.
Когда в 1916 г. в «Курсе» Соссюра впервые так настойчиво подчеркивалась произвольность языкового знака, то многим казалось, что теперь наступила эпоха знакового истолкования языка. Если в русском языке дерево называется «деревом», а конь – «конем», то выбор того или иного названия в синхронной системе языка произволен, ничем не обусловлен. Создавалось впечатление, будто концепция знаковой природы языка сразу избавляет лингвистов от решения многих сложных проблем и дает возможность построить простую и однозначную систему знаковых отношений.
Такое впечатление оказалось, однако, совершенно иллюзорным. Любопытно, что уже Ш. Балли, ученик Соссюра и один из двух издателей его «Курса», резко возражал против принципа произвольности (немотивированности) языкового знака. В своей остро теоретической книге Ш. Балли всячески стремился сузить сферу функционирования в языке произвольных знаков и всеми возможными способами расширить сферу функционирования знаков мотивированных, непроизвольных[103].
Балли рассуждал при этом так: с помощью языка люди выражают не только свои мысли, но и свои чувства. Вместе с ними люди обычно передают и свое отношение к обсуждаемым вопросам. Так возникает мотивировка слов, словосочетаний и целых предложений. Так формируются переносные значения, полисемия, полифункциональность грамматических категорий и т.д. Человек не остается в стороне от своего родного языка. Поэтому и языковые единицы (лексические, грамматические и, отчасти, фонологические), как и система языка в целом, не могут оставаться немотивированными для людей, для которых данный язык является родным.
Но Балли лишь начал критиковать принцип произвольности языкового знака. Позднее эта критика была расширена и глубже обоснована. Не ставя перед собой задачи – дать историю критических суждений об этом принципе Соссюра – укажу лишь на некоторые моменты, существенные для интересующей меня темы.
Языковой знак не может быть произволен уже потому, что, как мы знаем, языковой знак может существовать лишь в ряду «знак – значение – вещь (явление)». В этом ряду знак соотносится с внеязыковой действительностью. Каждый отдельный знак, будучи отдельным, вместе с тем контактирует с другими знаками в языке. А через посредство других знаков, каждый отдельный знак взаимодействует и с адресатом, к которому обращается говорящий или пишущий. Подобная троякая обусловленность языкового знака придает ему всестороннюю мотивированность. Тем самым принцип произвольности языкового знака, который поначалу представляется бесспорным, в действительности оказывается принципом иллюзорным. Мотивированность языкового знака отличает, в частности, все естественные (национальные) языки от всевозможных искусственных кодов, создаваемых для тех или иных чисто технических потребностей.
В свое время Л.О. Резников убедительно показал, почему шахматы – это игра, а не семантическая система. Шахматы опираются на строго определенный синтаксис игры (правила игры), но подобный синтаксис не имеет семантической интерпретации, поэтому в ряду «знаки – значения – вещи (явления)» в шахматной игре нет ни второго, ни третьего из этих звеньев. Не имея же опоры во втором и третьем звеньях, шахматы оказываются игрой[104]. В отличие от шахмат языковые знаки оказываются такими знаками, которые в только что отмеченном ряду не могут существовать без второго и третьего звеньев самого этого ряда («значения – вещи»). Когда подобных звеньев по той или иной причине нет, то язык нам представляется необычным, некоммуникативным, даже ненормальным. Ощущение подобной ненормальности людьми, говорящими на данном языке, лишний раз подтверждает подлинное назначение любого национального языка.
Разумеется, знаки знакам рознь. Специфику языковых знаков обычно сводят к специфике звуковой оболочки слова. Бесспорно, подобная специфика существенна, с ней необходимо считаться и ее необходимо изучать. Но, на мой взгляд, гораздо важнее другая, более общая, менее формальная специфика: постоянная отнесенность языковых знаков сквозь сферу их же значений в сферу предметов и явлений окружающего человека мира (в самом широком смысле этого последнего слова). Поэтому языковые знаки перестают быть знаками в собственном смысле. Природа языка сложнее и многоаспектное природы любой знаковой системы, даже самой сложной.
Слушая музыку, мы не всегда соотносим ее с действительностью, не всегда ищем для нее опоры в действительности. А вот в живописи и скульптуре мы уже гораздо настойчивее ищем аналогий в действительности. Это, разумеется, не означает, что подобные аналогии должны быть прямыми, тем более – прямолинейными, но они обычно возникают и уже этим живопись отличается от музыки – мира более отвлеченных эмоций[105]. Что же касается языковых знаков, то их отнесенность к действительности (реальной или воображаемой) становится одним из важнейших свойств самих этих знаков, свойством, без которого они функционировать не могут, а следовательно, и существовать не могут.