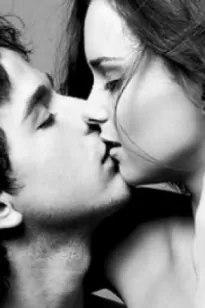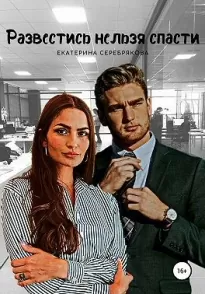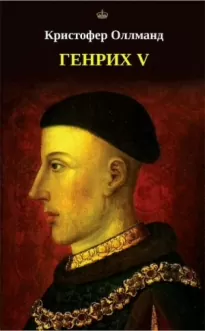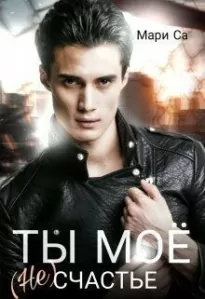Знак. Символ. Миф: Труды по языкознанию
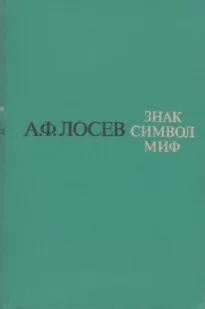
- Автор: Алексей Лосев
- Жанр: Языкознание
- Дата выхода: 1982
Читать книгу "Знак. Символ. Миф: Труды по языкознанию"
Если мы возьмем такой знак, как национальный флаг, то это определение будет целиком относиться также и к нему, с заменой, конечно, «звуковой единицы» на «живописную» или «цветовую единицу». Выдвижение материальности языкового знака безусловно правильно, но опять-таки обладает слишком общим характером, поскольку и всякий знак вообще всегда материален. Борьба с чистой глоссематикой Л. Ельмслева тоже у всякого вызовет только положительное и вполне одобрительное отношение. Но учение Л. Ельмслева о языке как о системе чистых отношений, лишенных всякой субстанции, тоже не так просто, поскольку Ельмслев отбрасывает всякую субстанцию только в ее грубой самостоятельности, но в смысловом отношении даже и он старается вобрать ее в свою систему чистых отношений[152].
В том же сборнике необходимо отметить статью Г.С. Клычкова[153], ценную во многих отношениях, но не ставящую вопроса о специфике языкового знака. Этот автор едва ли правильно пишет:
«Значение слова является психическим образованием, основанным на отражении в нашем сознании предмета, явления и притом отражении обобщенном»[154].
Значение может переживаться психикой, но само по себе вовсе не есть психический акт. Кроме того, ни значение, ни психический акт вовсе не обязательно являются отражением объективной действительности.
Мифы, сказки и вообще фантастические рассказы если и отражают объективную действительность, то в каком-то особом смысле, который еще надо раскрыть. Впрочем, и сам автор не сводит значение только на психический акт, а в дальнейшем указывает еще и на его общественно-историческую значимость, а также и на обусловленность системой языка, роль которой он сам же очень хорошо иллюстрирует[155]. Если исключить эту некоторого рода сбивчивость изложения, то статью Г.С. Клычкова нужно считать очень полезной, хотя она и не ставит основного вопроса о специфике языкового знака. Огромным шагом вперед являются те многочисленные доклады, которые были прочитаны на симпозиуме по знаковым системам в Москве в 1962 году[156]. Этот шаг характеризуется тем, что здесь впервые и притом в специальной, а не в случайной форме языковые знаки связываются с понятиями структуры и модели. Поскольку, однако, такая колоссальная проблема не могла быть разрешена сразу, то докладчики на этом симпозиуме, по-видимому, были далеки от того, чтобы ставить в логически ясной форме вопрос об отношении языкового знака к языковым структурам и моделям. Этот вопрос считался здесь ясным, и никто из докладчиков не потрудился дать ту или иную его логическую формулировку. Эта формулировка наметилась у нас только в последующие годы, но об этом мы будем говорить в специальной работе. Что же касается симпозиума 1962 года, то, несмотря на большое количество хороших и даже блестящих докладов, упомянутая проблема пока еще не стала здесь предметом исследования, что для начальной стадии знаковой теории является вполне естественным.
В книге, посвященной тезисам этого симпозиума, имеется предисловие, в котором, казалось бы, и нужно было бы осветить или, по крайней мере, поставить основную проблему связи знака с теорией структур и моделей. Но уже первая фраза этого предисловия, преподносимая как определение знака, страдает логической ошибкой idem per idem:
«Семиотика – это новая наука, объектом которой являются любые системы знаков, используемые в человеческом обществе»[157].
Другими словами: наука о знаках есть наука о знаках. Так как этим определение знака не дается, то и в дальнейшем понятие знака выступает в неясной форме; и уже с самого начала нужно сказать, что понятие это берется в некотором чрезвычайно широком виде. Так, тут же пишется:
«С точки зрения современных кибернетических представлений человек может рассматриваться как такое устройство, которое совершает операции над различными знаковыми системами и текстами».
Поскольку и здесь точного определения знака не дается, то становится неясным, причем тут кибернетика и почему человека можно рассматривать как знаковую систему? В дальнейшем противопоставляются человеческий мозг и машина, и опять то и другое рассматривается как знаковая система. Но почему человек и машина являются только знаковыми системами, опять оказывается неизвестным. Казалось бы, то и другое является в первую очередь некоторого рода субстанцией, которая владеет той или иной знаковой системой. Но владеть знаковой системой и быть знаковой системой – это как будто бы разные области; и если эти области тождественны, это требует разъяснения. Полное же и окончательное тождество какой бы то ни было субстанции и ее знаковой системы само собой не очевидно и еще требует для себя доказательства. Но уже и тут ясно, что упомянутый симпозиум вовсе не понимает знака в обычном смысле слова, а понимает его чрезвычайно расширенно. И, вероятно, для такого расширения имеет свои основания, но основания эти на симпозиуме не анализировались. Дальше на той же странице читаем:
«…естественные языки могут использоваться в качестве модели всего мира, окружающего человека, в том числе для описания явлений, еще не получивших научного объяснения».
Здесь вводится другое, тоже никак не определяемое понятие моделей; и поскольку такого определения нет, термин «модель» приходится понимать в самом неопределенном и обыденном смысле слова. Но тогда сразу же возникает вопрос: почему же естественный язык является моделью мира, а не мир является моделью для естественного языка? То, что знаковая система понималась на этом симпозиуме очень широко, свидетельствует устанавливаемая в предисловии тесная связь системы знаков с поведением человека и указания на практические и жизненные выводы, которые можно сделать на основании знаковой системы[158]. Следовательно, знаку приписывается какое-то практическое функционирование, а системе знаков – какое-то практическое регулирование поведения людей и вещей. Разумеется, такое расширенное понимание знака вполне соответствует тем основным принципам теории знака, которые мы формулировали выше; и в этом необходимо видеть большой шаг вперед в сравнении с обычным мертвенным и неподвижным пониманием знака. Однако разъяснения понятия знака, необходимого для такого его понимания, здесь не дается.
Можно также приветствовать сближение теории знаков с предельной формализацией языка науки, которая, как известно, имеет в истории науки такое большое значение. Но что значит формализация языка в данном случае, это тоже здесь не рассматривается.
Модель в представлении участников упомянутого симпозиума имеет самую близкую связь с моделируемыми объектами. И это обстоятельство тоже очень ценно для выставленных у нас выше общих принципов для всякой знаковой системы. Но сам термин «модель», а следовательно, и связанное с ним понятие не только не анализировались на упомянутом симпозиуме, но когда там заходила речь об отношении модели объекта к самому объекту, докладчики упорным образом стояли здесь на позиции idem per idem:
«Семиотика имеет дело прежде всего с моделями, т.е. образами отображаемых (моделируемых) объектов».
Значит, модель есть образ моделируемых объектов. И, несмотря на эту логическую ошибку в определении, модель вещи, конечно, есть прежде всего образ вещи, ее отражение. Здесь очень важна попытка дать сравнительную характеристику модели объекта и самого объекта, но ввиду неясности употребляемых здесь терминов, против основной характеристики этого сравнения нужно возражать, причем возражение это, вероятно, отпало бы, если бы терминология здесь была более ясной. Автор предисловия пишет:
«Эти образы (модели) стремятся к такому отношению между моделируемыми объектами и образами, при котором все элементы и объекты, имеющиеся (с прагматической точки зрения потребителя данной модели) в моделируемом объекте, имеются и в образе (модели), но обратное может не иметь места»[159].
В условиях отсутствия ясной терминологии можно было бы сказать обратное: те соотношения, которые имеются в модели какого-нибудь объекта, имеются также и в моделируемом объекте, но в этом последнем есть нечто большее, чем в модели, а именно сама субстанция, явившаяся предметом моделирования. Так или иначе, но основная позиция рассматриваемого симпозиума совершенно правильная: модель вещи есть ее отображение, а знак вещи и есть модель вещи, т.е. знак вещи есть отображение самой вещи, поскольку он повторяет соотношения, царящие в самой вещи, но в более общем, «формализованном» виде. Кроме того, моделирующему знаку приписывается здесь значение регулятивного принципа в связи с кибернетической направленностью основной идеи модели – знака. А это, если отвлечься от увлечений и гиперболизма в кибернетике, является весьма полезным пониманием моделей знака, поскольку все же ратует о переделывании действительности.
В докладе Ю.С. Мартемьянова «К построению языка лингвистических описаний» делается попытка разграничить такие важные для знаковой теории языка понятия, как «структура», «модель» и «система». Попытку эту, однако, приходится считать не очень удачной ввиду замысловатых объяснений, предлагаемых здесь автором. Лингвистическое описание, согласно этому автору, начинается с «полного разграничения», понимаемого как описание исходных объектов (текстов набора) в терминах «минимальных сегментов», образующих в результате «класс единиц текста (речи)»[160]. Сказано замысловато, но имеется в виду, вероятно, невиннейшее установление минимальных элементов языка (например, существительное, глагол, фразеологический оборот, та или иная синтаксическая конструкция и т.д.). Для этого установления, конечно, требуется четкое разграничение одного элемента языка от другого, причем каждый такой элемент оказывается вовсе не изолированной единичностью, но целым множеством единиц, их родовым понятием. Если автор хочет сказать именно это, то возражать здесь не приходится. Вторым этапом лингвистического описания является, согласно этому автору, «полное расчленение», под которым имеется в виду описание полученного «класса единиц» в терминах «минимальных подклассов»… конституирующих «синтаксические части речи». Этот второй этап является, по-видимому, излишним, потому что минимальный класс языковых единиц, точно отграниченный от всякого другого класса, уже имелся в виду в первом этапе лингвистического описания. Третьим этапом описания является далее «узкое распределение», определяемое как описание единиц из «минимальных подклассов» в терминах «коррелирующих единиц языка», «вариантов», а также «парадигм» и «морфологических частей речи». А этот третий этап описания формулировок уже совсем непонятен. Что такое «коррелирующие единицы языка» и причем тут «парадигмы», и что это за «парадигмы» и причем тут морфология? По-видимому, установленные и описанные раньше элементы языка объединяются здесь в какие-то общие классы; но что это за классы, опять остается неизвестным. Однако именно эти три неясных этапа лингвистического описания служат автору основанием ни больше и ни меньше как для разграничения понятий системы, структуры и модели. Автор пишет: