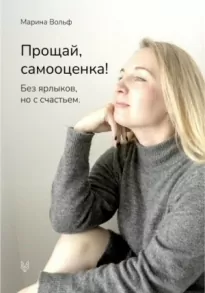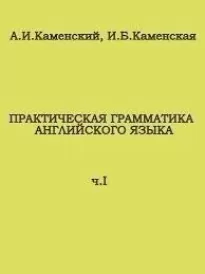Живая ласточка языка

- Автор: Александр Марков
- Жанр: Языкознание
Читать книгу "Живая ласточка языка"
Матезиус известен прежде всего работой об «актуальном» членении предложения, которое он противопоставлял «формальному», знакомому нам как членение на подлежащее, сказуемое и второстепенные члены предложения. Актуальное членение различает «исходную точку», что мы обычно называем и уже называли здесь «темой» (topic), и «ядро ситуации», что мы обычно называем «ремой» (comment). Без актуального членения невозможно изучать славянские языки, где естественно звучит порядок тема-рема («У меня есть деньги» вместо «Я имею деньги»), а эмфатически — порядок рема-тема.
Это существенно было для понимания того, как строится агентность в славянских языках: агент, действующее лицо или предмет, появляется не сразу, а в ходе разговора. В этом можно увидеть влияние славянской литургии, воспроизводившей эмфатические риторические конструкции греческого оригинала и создававшая образы чудесного появления новых вещей и состояний. Но по Матезиусу нельзя сказать, что язык формирует у каждого народа образ действительности. Происходит всё иначе: формальные структуры языка отображают действительность, а функциональный синтаксис позволяет нам действовать в действительности, отнестись как-то к ней, проявить какие-то свои функции действия в действительности. Язык не определяет наше сознание, а просто высвобождает какие-то наши функциональные возможности, позволяя что-то лучше познавать, а где-то лучше действовать. Если отражение действительности в языке синхронично, это репрезентация, то как раз высвобождение этих наших функций диахронично, проявляется во времени, иногда очень длительном (в «большом времени»), как сказал бы М. М. Бахтин.
В работе Пражского лингвистического кружка участвовали русские эмигранты Николай Сергеевич Трубецкой (1890—1938), как и Щерба, употреблявший термин «фонема», и Роман Осипович Якобсон (1896—1982). Якобсон сделал немало для развития социолингвистики, и если вспомнить всё его трудолюбие, вычленить какую-то одну его социолингвистическую идею довольно трудно. Он начинал как поэт-футурист, причем даже более радикальный, чем «заумный» Алексей Кручёных: в «дыр бул щир» всё же была звуковая выразительность, которую сам Кручёных считал национальной, тогда как Якобсон стремился к полному отказу поэзии от образов. К этой же идее абсолютной поэзии, поэзии без образов, он много раз возвращался и в позднейших работах: например, он разбирал стихотворение А. С. Пушкина «Я вас любил…», показывая, что в нем содержатся только стертые образы, а вся идея стихотворения, то есть взгляд на себя со стороны как принятие той самой «диахронии», в которой я из любовника превращаюсь в поэта, выражается исключительно грамматическими отношениями. Якобсон немало общался с Ж. Лаканом и К. Леви-Строссом, и во многом в разговоре с ними сформировал идею поэзии как идею освобождения от привычных констатаций, как некоторого «безумия», сразу переводящего от синхронии репрезентации к диахронии сложной концептуализации происходящего.
Поэзия для Якобсона — выявление эстетической стороны речи, выразительной и надолго запоминающейся. Он даже говорил о «поэтической функции языка», то есть собственной выразительности слов, которая никак не связана с содержанием и задачами сообщения, но позволяет нам запоминать сообщения. Дело всё в том, что поэзия, по Якобсону, метафорична, а метафора производит отбор. Мы понимаем, какое сравнение уместно, а какое — нет. Тем самым, поэзия превращает синхронистическую догадку в диахронически устойчивую ассоциацию, которая для нас прилична, приемлема и потому запоминается. При этом сам этот отбор не может быть верифицирован научно и потому может восприниматься как безумие или односторонность. Проза же, наоборот, может брать любой материал, она построена на метонимии, близости вещей в реальности, а не в нашем уме. Поэтому проза репрезентативна, а не изобретательна, она представляет те или иные формы реальности, и то, что мы часто принимаем за особенности какого-то языка, за «картину мира» этого языка — это, на самом деле, особенности прозы. У Якобсона есть, например, яркое замечание о ранней прозе Пастернака, что это как будто бы горец идет по равнине и мы видим его походку горца, поэта, внимательную, в отличие от расслабленной равнинной прозаической походки. Нужно заметить, что сравнение не вполне вежливое: Пастернак в юности упал с лошади и всю жизнь хромал. Проза, по Якобсону, всегда несколько самонадеянна, поэзия всегда несколько отчаянна.
В 2015 году вышел роман французского писателя Лорана Бине «Седьмая функция языка» — пародия одновременно на университетский роман и конспирологический детектив. В этом романе макгаффин — неопубликованная рукопись Якобсона, в которой кроме шестой, поэтической функции языка, изложена якобы седьмая функция языка, манипулятивная или магическая, позволяющая сделать из чего угодно что угодно. Конечно, Бине играет с расхожим представлением о постмодернистской теории как якобы релятивистской риторике. Но он ухватил один важный момент: действительно, теория Якобсона имеет в виду не только поэтическую функцию языка, но и определенные навыки репрезентации, которые развиваются в прозе. От того, что метонимия не подразумевает отбора, не значит, что эта репрезентация ни с чем не считается — наоборот, она должна считаться со всем. Роман Бине — отсроченная месть прозаиков Якобсону за предпочтение поэтов прозаикам, по-своему меткая.
Джон Лэнгшо Остин (1911—1960) — британский исследователь, один из создателей теории речевого акта. До него обычно говорили, что истинными или ложными бывают утверждения (propositions), то есть фразы с подлежащим и сказуемым, указывающие на реальность истинно или ложно. Но Остин сказал, что некоторые утверждения мы не можем верифицировать, скажем, мы не можем сказать, истинно или ложно утверждение «Это облако похоже на коня». Сторонники логического позитивизма на это возразят, что такое утверждение относится к области психологии и истинным образом высказывает душевное переживание человека, его произносящего. Но Остин говорит, что это уход от вопроса, потому что мы говоря «Облако похоже на коня», мы высказываем на самом деле мысль «Для моего сознания облако похоже на коня, как и для сознания другого облако похоже на коня». То есть к психологическим реакциям это утверждение свести нельзя, и даже к общим законам психологии, потому что признание чужого сознания в качестве сознания относится не к психологии, а к философии. Таким образом, логический позитивизм непротиворечив, только если мы рассматриваем психологическую реакцию каждого человека всякий раз только как объект наблюдения, а не как свойство сознания.
Поэтому Остин резервирует истинность и ложность не за утверждениями, а за высказываниями (statements). В отличие от утверждений, высказывания, например, могут иметь форму приказа: «Принеси стул!» Это высказывание становится истинным, когда в ответ другой приносит стул, и тем самым своим действием утверждает истинность высказывания, что стул может и должен быть принесен. В логическом позитивизме все такие высказывания относились только к области социальной психологии, но не философии. Тогда как Остин исходит из того, что чужое сознание вполне познаваемо через язык, как считывающее высказывание тем же образом: другой человек понимает, что такое «стул» и «принести», и тем самым подтверждает наличие у него сознания. В этом смысле робот, приносящий стул, не обладал бы сознанием, но был бы взят в рамку нашего сознания, запрограммировавшего при разработке робота одни его действия и не запрограммировавшего другие.
Любое высказывание для Остина трёхслойно. Локутивный слой — это называние, например, «стул» и «принести», слова, имеющие значение. Иллокутивный слой — это оговаривание прагматических условий, то есть что это приказ, а не описание. Наконец, перлокутивный слой — это подразумеваемый результат, например, что человек, который принес стул, показал свою послушность и будет послушно приносить стулья, или что он понял необходимость стульев в комнате. Локутивным слоем занимается лингвистика в строгом смысле, изучение семантики; иллокутивным слоем — поэтика, то есть наука о том, как говорящий воспринимает фразу, какой смысл вкладывает, как строит высказывание, чтобы оно сработало во времени; а перлокутивным слоем — риторика, показывающая, как высказывания меняют действительность, в том числе — психологическую действительность.
Таким образом, Остин настаивает на перформативности языка, и даже выделяет особые перформативы — высказывания, которые не сообщают о положении дел, но сразу реализуют единство всех трех слоев, как бы покоряют себе время. Таковы высказывания вроде «Клянусь» или «Объявляю вас мужем и женой»: они становятся истинными в момент их произнесения и меняют действительность, а не способ описания действительности. При этом Остин не рассматривает тех случаев, когда перформативы представлены, скажем, на театральной сцене, когда актер говорит за героя «Клянусь». Да, конечно, можно попробовать вынести за скобки театр как институт, сказав, что это исключение, но нельзя вынести за скобки другие театральности нашей жизни, от романа до иронического дружеского общения, от цитирования до продуктивного фантазирования. Чем больше мы пытаемся вынести всё это за скобки, тем больше это атакует нашу мысль. За такую недооценку игровых условностей, неизбежных в письменной речи, Остина упрекал великий французский философ Жак Деррида (1930—2004).
Деррида сказал, что Остин не заметил в своем учении о производстве словами событий, что такому производству предшествует доверие: чтобы сказать «Клянусь», мы должны доверять и словам, и обстоятельствам клятвы. Но это доверие не может полностью держаться на взаимном обмене, что благодаря клятве мы получим полезную для нас действительность в ответ, где клятва произвела что-то хорошее. Считать, что клятва просто меняет действительность — это самозванчество: как человек, не имея полномочий от другого, при этом совершает речевой акт, который должен изменить другого? Поэтому Деррида противопоставляет слишком схематичной мысли Остина свое учение о даре: некий дар, способность даровать, отпускать на волю, предшествует речевому акту. Этот подарок, начальная способность хоть одному творенью свободу даровать противостоит самозванчеству. Мы можем вспомнить пушкинское «Царь на радости такой Отпустил всех трех домой», то есть дарованное прощение и позволило дальше развернуть те акты, которые и учредили правильный политический порядок в отношениях между царствами Салтана и Гвидона.
Вообще, Деррида был скорее философом письма, чем философом языка. Он исследовал, как письмо, след, руина и иные формы культуры с самого начала искажают подлинность нашего речевого действия, и как философия, располагая все эти формы внутри совершенно нового, векторного синтаксиса, и позволяет осуществлять критику языка. Та критика языка, которую предполагает англоязычная аналитическая философия, казалась Деррида недостаточной: ведь она исходит из того, что даже если в языке есть лакуны, они могут быть преодолены логическим мышлением. Такое преодоление Деррида не считает подлинным, он называет его «устройством», то есть попыткой обустроить язык, от которой все равно ускользает какой-то существенный смысл. Чем больше мы анализируем язык, тем больше мы его «развязываем», то есть каким-то образом ослабляем. Тогда как язык сам возвращает свою собранность, но уже не как средства общения, а как «фармакона», яда, который может быть губительным и целебным. Такой «фармакон» действует как избавление от иллюзий, в том числе, от иллюзии, что читая, мы вычитали нужный смысл. Фармакон показывает, что на самом деле мы вычитали только частное и своё, тогда как язык слишком свободен для того, чтобы быть сведенным к этой нужности. Таким образом, социолингвистика начинается там, где момент свободы оказывается сильнее любого частного момента нашего познания языка.