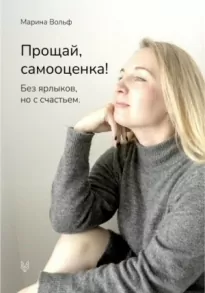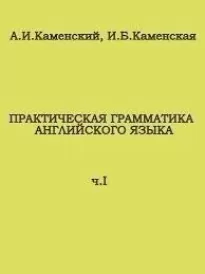Живая ласточка языка

- Автор: Александр Марков
- Жанр: Языкознание
Читать книгу "Живая ласточка языка"
Глава 4. Подход Флоренского. Русский формализм и новые перспективы изучения внутренней формы. Пражский кружок и учение Якобсона о поэзии. Остин и Деррида
В начале 1920-х годов русский теолог и гуманитарий-универсал П. А. Флоренский (1882—1937) создает труд «У водоразделов мысли». В этом труде он стремится синтезировать науки, дойдя до их водоразделов, исходя из практической ориентации наук — так, он развивает идею Эрнста Каппа об органопроекции, об инструментах как продолжении человеческого тела, но понимает ее теологически, как отзыв человека на призыв свыше. Он соединяет в этой книге радикально авангардные интуиции со вполне консервативным даже для тогдашних теологов пониманием церковности как просто отзыва, отклика, ответа, не имеющего своей развитой внутренней структуры, но подчиненного логике культа. В этой книге нам интересны разделы, посвященные Строению слова и Термину. Флоренский понимает строение слова динамично и инструментально, но внешнюю и внутреннюю форму соотносит скорее с теми мирами, которым принадлежит слово, чем собственно с внутренней его эволюцией.
При этом термин он понимает динамически, как то, что и провоцирует развитие наук, как принцип эволюции смысла внутри определенных рядов и порядков понимания. А внутренняя форма для Флоренского — это принцип личной, духовной эволюции, некоторое родное и глубинное, что позволяет нам обрести некоторый уровень понимания, с которого легче перейти в развивающийся ряд научного действия. Таким образом, у Флоренского действует сложное соотношение внутренней формы, внешней формы и практического смысла, благодаря чему и возможно развитие наук. Социальное у Флоренского оказывается частью индивидуального опыта, когда последний находит себе термин, некоторое ограничение суждения, благодаря чему и возможна социальная рефлексия. Близкие идеи развивал А. Ф. Лосев (1893—1988) в своей книге «Философия имени» (1927), где рассматривал именование как первый акт социально значимой рефлексии, как выход из тьмы неопределенности смыслов, которые сами по себе произвольны. Именование оказывается тогда первым актом упорядочивания действительности свыше, и это упорядочивание далее себя выстраивает в священных смыслах.
Итак, в 1920-е годы мы видим особый тип конструктивизма, исходящий из вызревания социального в индивидуальном и из понимания наук как стимула этого вызревания. Русские формалисты тоже придерживались этого конструктивизма, только для них на место наук становились художественные приемы в литературе. Русские филологи-формалисты, такие как Борис Михайлович Эйхенбаум (1886—1959), Виктор Борисович Шкловский (1893—1984) и Юрий Николаевич Тынянов (1894—1943) интересовались больше литературоведением, чем лингвистикой. На первый взгляд они кажутся последовательными конструктивистами, вполне в духе времени. Например, Тынянов опубликовал статью «Блок» вскоре после смерти поэта, которую поклонники поэта восприняли чуть ли не как оскорбление. В этой статье Тынянов показывает, как производство стихов Блоком в конце концов приводит не к созданию блоковской эстетики, как мы бы ожидали, а, в предельном усилии, к созданию самого Блока как поэта. Исполнение определенных модальностей, способов разговора с читателем, озарений вдохновения, головокружительных образов, всё это телеологично, всё это направленно, всё это создает Блока как факт не просто истории литературы, но современной социальной истории. Благодаря определенной направленности вдохновения и воображения Блока стал возможен Блок как социальная фактичность («лирический герой» как общий образ говорящего, субъект речи в стихотворении), как поэт, занимающий место первого поэта для всех его современников, даже не интересующихся поэзией. Здесь мы усматриваем уже два важных тезиса, 1) что работа поэта в языке есть социальное конструирование, которое в отличие от газеты может не замечаться многими, но которое и определяет эпоху, и 2) что личность поэта в переломную эпоху есть социальная функция — наподобие того, как близкий формалистам В. Я. Пропп выделял функции персонажей в волшебной сказке.
Формалисты близки социолингвистике тем, что интересуются не конструированием отдельных смыслов в тексте, как традиционная филология, но социальным восприятием смыслов: что именно современникам, например, в Пушкине казалось чуждым, бессмысленным или враждебным, что нам кажется гладким и хрестоматийным. Иначе говоря, для них художественный язык всегда социален — он одновременно утверждает позицию поэта как необходимого лица в социальной системе и бросает вызов публике с ее привычными языками быта и повседневности. Например, Шкловский в 1927 году, когда формализм уже стали сворачивать по указаниям сверху, выступил с докладом о «Капитанской дочке» Пушкина. Там он говорил, что Пушкин был реакционером по убеждениям, не принимавшим бунт Пугачева как правильное революционное восстание. Заметим, что Шкловский поневоле привносит аксиологию туда, где с точки зрения официальной была только «историческая необходимость», то есть немного мыслит как поэт. Но сюжетные паттерны, нормативные для волшебной сказки, баллады или романа Вальтера Скотта, такие как благородный разбойник или чудесный помощник, действовали вопреки убеждениям Пушкина как представителя дворянства, и продолжают работать и в наши дни. Здесь Шкловский несколько отрекается от своих прежних убеждений, что приём имеет ограниченное время применения и потом автоматизируется. Но он просто принимает новую социологическую рамку, где уже есть не просто публика, которая всегда жаждет нового, а широко понятый народ, который ждет нового слова в привычных формах, для которого любое появление чего-то необычного, даже при этом соответствующего начальным паттернам — праздник. Тогда же Шкловский начинает писать исследование об издателе народных лубочных книг Матвее Комарове как таком создателе народного чтения до Пушкина, как создателе литературной индустрии, внутри которой Пушкин уже действовал несколько капризно, хотя и гениально.
Одним из манифестов формализма стала статья Эйхенбаума «Как сделана Шинель Гоголя» (1919). В ней он продолжает идею Шкловского о возможности свести даже самое сложное произведение к системе приемов, которые ощущались современниками как новаторские, но после превратились в стертые. Учение о приемах оспаривал М. М. Бахтин — ведь прием вызывает только скандал, а в книге о Достоевском Бахтин показывал, что скандал — это только поверхностная встреча с Другим, который как бы пытается занять твое место, тогда как структура полифонического романа превращает скандалы только в эпизоды исполнения этой романной формы. Бахтин, не соглашаясь во многом с формалистами, был не менее их телеологичен — для него литературная форма есть целевая форма, она должна реализовать некоторую окончательную цель социальной человеческой речи.
Эйхенбаум оспаривает упрощенное социальное прочтение повести Гоголя, принадлежащее локальной социальной ситуации, как защиты «маленького человека» от давления системы. Он оспаривает этот социально окрашенный жаргон, превращающий литературу в защиту «маленького человека», и говорит, что по сути это не повесть с героем, а анекдот, где нет сюжета и героя, а есть коллизия. В анекдоте существенно, как его рассказывают, и Эйхенбаум различает два особых способа построения речи: нормативный литературный язык и «сказ», рассказывание анекдота. Эти способы построения речи и позволили Гоголю стать народным писателем: анекдотический сказ оспаривает язык официального быта с его письменным каноном (бюрократическое письмо не спасает функционера Башмачкина), тогда как полновесный литературный язык Гоголя должен спасти и Башмачкина как героя, и всю Россию — Гоголь верил в свою миссию. Внутри этого переключения между повествованием и сказом и начинают играть все приёмы, работая на это миссионерство, оспаривающее все попытки построить жизнь на основе субъективных намерений — Башмачкин ведь был таким романтиком письма и бюрократической утопии. Нужно понимать, что тогда как раз литература наполнилась сказами и жаргонами, и это отвечало новому состоянию языка революционной эпохи как преодолевшего сословные рамки. Набоков, не принимавший революционный язык, предположил в лекциях о Гоголе реалистическую мотивировку финала «Шинели», что слились бюрократический язык и язык слухов или дурной молвы: просто ватага, ограбившая Акакия Акакиевича, продолжала действовать, но так как все услышали о деле Башмачкина, то приписывали ему действия ватаги как якобы благородному разбойнику. Так Эйхенбаум, оспаривая сентиментальную узкую социологию, создает конструктивистскую общую социолингвистику.
Формалисты понимали историю литературы не просто как борьбу поколений, но как борьбу приёмов, например, ямб или диалог может вдруг сработать за какое-то поколение и обеспечить ему лидерство в литературе. При этом такой эффект не сводится к качеству: можно писать очень гладко, и при этом остаться на периферии литературы. Такой сработавший эффект Тынянов назвал «литературным фактом»: например, если журналистика становится лидирующей в литературе, то производство журнала становится литературным фактом. Эйхенбаум прибавил к этому термин «литературный быт», назвав так те условия, которые и позволяют писателю стать профессионалом, например, в той же журналистике — где он учится, как организован его досуг, как принято выстраивать общение в данных кругах. Тем самым, литературный быт имеет социолингвистическое измерение диалога, а литературный факт — социолингвистическое измерение монолога. Литературный быт преломляет социальную диалогическую речь, а литературный факт — воздействие монологической речи, направленной на достижение какой-то социальной цели. Так что дифференциация между интеллигентским жаргоном (жалевшим маленького человека) и общенародным языком (осуждающим любое эгоистическое намерение) сменяется новой дифференциацией: между кружковым диалогом и публичным выступлением, что полностью соответствуют различению «общины» (Gemeinschaft) и «общества» (Gesellschaft) у Макса Вебера. Именно эту публичность и имел в виду Шкловский в анализе «Капитанской дочки», отличая ее от аристократически-кружковых предпочтений Пушкина. Как мы видим, публичность языка в системе формалистов связана со становлением новых инфраструктур, таких как журналистика или исторический роман, с литературностью литературы, а вовсе не с намерением автора выступать публично.
Пражский лингвистический кружок был создан в 1926 году Вилемом Матезиусом (1882—1945). Прага была тогда весьма космополитическим городом, и чехо-словацкая национальная республика была просвещенной: президент Томаш Г. Масарик был очень строгим критическим филологом, боровшимся с любыми излишествами, а такие художники, как Альфонс Муха, работали на конструктивизм, а не мифологизацию. Вспомним, как Муха в своих лекциях по композиции говорил, что главный дар художника — это раскрыть возможности простой формы, например, представить квадрат как потолок и сразу заполнить его теми объемами, которые подчеркивают его квадратность. Так что это была страна победившего конструктивизма, который использовался не только для решения отдельных проблем, например, жилой застройки, но как общий стиль республики.