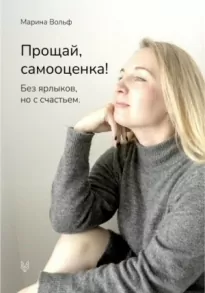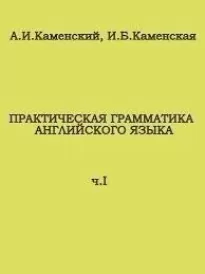Живая ласточка языка

- Автор: Александр Марков
- Жанр: Языкознание
Читать книгу "Живая ласточка языка"
Глава 3. Становление советской социолингвистики. Селищев, Ларин, Марр, Поливанов и другие. Учение Шпета о внутренней форме слова
Советская социолингвистика 1920-х годов развивалась прежде всего как изучение «языка города», который надо было отличать как от языка деревни, так и от языка «бывших» — аристократов, священников и других, кого революционная власть объявила утратившими власть над официальным языком. В молодом советском государстве шло ускоренное формирование новой элиты, вербовавшейся из самых разных групп с разным этническим и социальным профилем — например, многие профессиональные революционеры имели неплохое техническое образование, революционные матросы были в целом грамотными людьми, умевшими выполнять сложные задачи, в том числе и речевые, например, организовывать митинг. Отмена черты оседлости в 1915 году позволила после революции пополнить интеллектуальную и управленческую элиту большим числом евреев с их традициями фундаментального домашнего и синагогального образования. Это отразилось и в литературе: вспомним телеграфный стиль документальной прозы 1920-х годов, отражавший опыт матросов, или неповторимый русско-еврейский одесский жаргон. В элиту попадали разные люди, например, выпускники духовных семинарий адаптировали версию богословской схоластики для целей советского атеизма, сохранив при этом некоторые ее черты: дедуктивность рассуждения, тавтологии, громоздкость рассуждений и цитатность.
Но главным был вопрос не кто будет элитой, а где она будет. Нужно было создавать множество новых центров управления, например, в Центральной Азии, для чего эмансипация населения сопровождалась внедрением того самого условного «языка города». Если предельно схематизировать ситуацию 1920-х годов, то это была ситуация ускоренного изобретения языка города, универсального для всего советского государства, который и должен стать языком официального быта — при этом он мог быть узбекским или белорусским (политика «коренизации», направленная на подготовку надежных и вызывающих доверие населения местных элит), а не только русским. При этом ускоренное усвоение ряда языковых пластов, например, философского рассуждения или бюрократической нормирующей речи, приводило к тому, что язык города соединял в себе несовместимое: с одной стороны, громоздкие конструкции, которые воспроизводили бюрократизированное замедленное принятие решений, а с другой стороны — агитационные, часто грубые призывы. В речи Ленина эти два слоя постоянно перемешивались: научное рассуждение взрывалось прямой руганью, а митинговая речь и речь писем включала в себя ученые слова и конструкции немецкого типа, которые не смотрелись как цитата, но усиливали и суггестивность, и предполагаемую точность речи.
Изучение городского языка шло разными путями. Так, Афанасий Матвеевич Селищев (1886—1942) в своей книге «Язык революционной эпохи» (1928) рассматривал сдвиги в языке в сравнении с дореволюционной нормой. Его подход — конструктивистский, он смотрит, как новые реалии и социальные отношения требуют создания новых форм выразительности, начиная от аббревиатур и кончая эмфатическим (повышенно экспрессивным) употреблением многих нейтральных слов. В его изображении язык революционной эпохи оказывается усложненным языком, вобравшим в себя ряд обычаев управления, причем разного уровня, от централизованного до специфицированного (молодежно-комсомольского, колхозного и т. д.), но также и напряжение революционной событийности, требующей социальных прорывов и подчинения себя всей прежней истории. Такие прорывы и отливаются в формах специфически революционной речи: с часто книжными конструкциями и произвольно истолкованными германизмами (вроде «масштаб» в смысле «охват»), устанавливающими норму действия и контроля, с жаргонизмами, отражающими идущую профессионализацию населения, освоения профессий и связанных с ними габитусов (обычаев поведения, термин французского социолога П. Бурдьё), наконец, с определенными способами упаковывать содержания в кричащий стиль, взывающий к непосредственному действию.
Другой тогдашний социолог языка, Борис Александрович Ларин (1893—1964), занимался речью горожан. Во второй половине 1920-х годов он руководил семинаром по изучению языка города, который студенты в шутку называли «Гортрест», и опубликовал несколько статей по итогам семинара. Ларин считал, что язык официального быта — это всегда прекративший своё развитие язык, окостенение, и поэтому старый литературный язык не годится для нового советского быта. Нужно поэтому изучать язык города, в котором смешиваются различные жаргоны, профессиональные, низовые, поколенческие. Социальные сдвиги привели к тому, что эти жаргоны начали проникать друг в друга. Горожанин, даже если очень хочет говорить на правильном литературном языке, постоянно сбивается на живую речь. Здесь позиция Ларина близка русским филологам-формалистам, которые говорили, что развитие форм прозы идет не благодаря улучшению композиции, а благодаря вхождению в нее «сказа», то есть речевых форм, подражающих народной речи или профессиональному жаргону. Именно сказ позволяет отказаться от чрезмерной идеализации героев и ситуаций в прозе и показать действительную вовлеченность разных слоев населения в современную жизнь. Идею «сказа» впервые высказал Б. Эйхенбаум в статье «Как сделана „Шинель“ Н. В. Гоголя» (1919), а довел до теоретического совершенства В. Беньямин в работе о Н. С. Лескове «Рассказчик» (1936) (в русском томе «Озарения» эта работа есть).
Но самый интересный вывод Ларина состоит в том, что любой современный городской житель — полиглот. В городе сталкиваются не только разные языковые коллективы, например, бюрократы и рабочие, но представители каждой группы осваивают языки других групп. Например, бюрократ должен иногда ругаться как рабочий, а рабочий — писать отчёт как бюрократ. Но кроме такого практического употребления чужой речи, существует и уже приобретенный языковой навык — например, бюрократ, который столкнулся с одним рабочим, еще может ругаться как рабочий, считая это чужим языком, но бюрократ, который столкнулся с несколькими рабочими, уже постепенно привыкает к этому языку как одному из своих. Концепция Ларина стирает грань между родным языком и освоенным языком, показывая, что родной язык — это некоторый конструкт, имеющий в виду скорее привычки человека, устойчивое социальное воображение, чем действительные его навыки общения. Но при этом Ларин ничего не говорит о внутренней речи, оставаясь формалистом-экспериментатором.
Позиция Ларина повлияла на ряд позднейших исследований истории русского языка. Так, например, наиболее авторитетная теория развития русского литературного языка принадлежит Борису Андреевичу Успенскому (р. 1937) и противопоставляет «диглоссию» допетровской эпохи и «двуязычие» послепетровской эпохи. Диглоссия — это как раз ситуация городской или сельской среды, компактного проживания в церковной общине, где существует язык официального церковного быта (церковнославянский язык) и язык повседневного общения (древнерусский язык). Эти языки были взаимодополнительны, то есть о каких-то вещах можно было говорить только по-церковнославянски, а о каких-то — только по-русски. Например, протопоп Аввакум молился и думал по-церковнославянски, но когда обращался к противникам, говорил по-русски, и его «Житие» представляет собой такое обращение к противникам, встроенное в изначально каноническую церковную форму.
Теория Успенского явно учитывает введенное М. М. Бахтиным различение «я-для-себя» и «я-для-другого». Церковнославянский язык был таким «я-для-себя»: на нем нельзя было вести диспуты, в отличие от западной схоластической латыни, он как бы сам производил нужные смыслы, внутри церковной литургической практики. Тогда как русский язык был живым и вполне полемичным. В послепетровское время диглоссия сменилась двуязычием — русский литературный язык должен был выражать уже любые смыслы. Церковнославянский язык не стал, конечно, от этого бытовым, но появилась его отрасль — благочестивый язык духовенства, своеобразный сказовый язык.
В этом смысле образованный священник был двуязычен: он мог сказать благочестивую проповедь, состоящую из церковнославянизмов, но мог и перевести ее на литературный язык, или мог употребить церковнославянизмы в шутку, как в семинарских анекдотах, или как поэтический жизненный лозунг, как это делают герои повести Н. С. Лескова «Соборяне». В этом смысле двуязычие священника послепетровского времени ничем не отличается от французско-русского двуязычия дворянина послепетровского времени. Ситуация диглоссии не допускала сказа, но только следование канону текста для церковнославянского языка и канону быта для русского языка, так что языки компенсировали недостатки друг друга.
Концепцию Б. А. Успенского некоторые филологи критиковали: так, М. И. Шапир обратил внимание на то, что ни чистой диглоссии, ни чистого двуязычия в истории русского языка не было: например, церковная летопись переводила на церковнославянский язык речь князя, явно сказанную по-древнерусски, а предметные области русского и церковнославянского, русского и французского оставались разными и в послепетровскую эпоху. Но позиция Успенского имеет социолингвистический смысл: границы языка являются границами действия институтов, в частности, различных институтов церковного и гражданского права, и поэтому синодальная реформа Петра I, объединившая государственные и церковные институты, поневоле покончила с диглоссией как средством функционального различения институциональных порядков.
Итоги развития социолингвистики 1920-х годов подвел Лев Владимирович Щерба (1880—1944), который сказал, что язык настолько же сложен, насколько сложно общество. Чем сложнее становятся общественные отношения, тем сложнее становится структура языка. Что же при этом обеспечивает единство языка? Щерба был фонетистом-экспериментатором, который придумал термин «фонема»: например, звук [а] мы все произносим и слышим несколько по-разному, но при этом мы не путаем [а] и [о] в словах, потому что понимаем, что это не просто звук, а фонема, значимая смыслоразличительная единица. Конечно, в языке есть смешение разных смыслов, например, при омонимии, но фонема позволяет этому смешению не принять угрожающие масштабы. Тем самым, общество как бы само устанавливает, в ходе практики по говорению и слушания, необходимую для него степень внятности языка. Эта внятность предшествует отдельным значениям: Щерба придумал фразу «Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка», в которой мы не знаем значения ни одного из слов, кроме союза «и», имеющего только грамматическое значение, но при этом понимаем, что это русская, внятная и обладающая определенным социально значимым сюжетом фраза.
Густав Густавович Шпет (1879—1937) был выдающимся мыслителем и организатором науки, фактическим руководителем Государственной академии художественных наук — главного центра производства знания об искусстве в СССР 1920-х годов. Он был переводчиком Гегеля и Диккенса, легко интуитивно схватывавшим законы чужих культур, эрудитом, внимательным к тончайшим деталям и философской аргументации, и быта. Радикальный авангард он недолюбливал из-за его поспешности, что сразу искусство уходит на заборы, но при этом ценил и его, когда он был детален. В начале 1930-х годов ГАХН был расформирован, официальный поэт Демьян Бедный написал, что надо взять да ахнуть «по некоему ГАХНу», где «какой-то подозрительный Шпет цу шпет (слишком поздно) уличен был в сатрапстве и головотяпстве», а Шпет был отправлен в ссылку. Даже в ссылке он оставался организатором науки, воспроизводя привычный быт с переводами, комментариями, работой секретарей и машинисток.