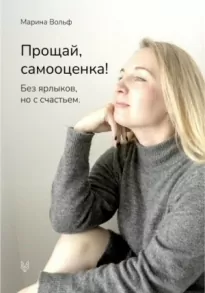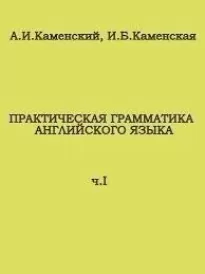Живая ласточка языка

- Автор: Александр Марков
- Жанр: Языкознание
Читать книгу "Живая ласточка языка"
В своей книге «Внутренняя форма слова» (1927) он поставил целью сблизить, исходя из достижений тогдашней социологии, два главных утверждения Вильгельма фон Гумбольдта: о значимости внутренней формы слова, то есть этимологии, для развития языка как главного социального института, и об «энергии», то есть постоянной изменчивости языка, постоянной его введенности в действие, благодаря чему язык может быть не только средством общения, но и социальным фактом. Мысль Гумбольдта надо было очистить и от наслоений языковых национализмов XIX века, и от превращения внутренней формы в фольклорный поэтический образ, как это произошло у А. А. Потебни.
Шпет предположил в своей книге простую и гениальную вещь: что внутренняя форма и энергия — это практически одно и то же. Внутренняя форма есть мысль, а мысль не бывает внесоциальной, она всегда мысль для кого-то, для других. Внешняя форма тогда может рассматриваться и как окостенение языка, но и как окостенение социального субъекта, привыкание социального субъекта к обыденной жизни. Внутренняя форма тогда, появляясь в диалоге, размыкает это окостенение, требует обратить внимание на сами условия речи. Тогда социальное развитие становится уже не воспроизводством этой двойной миметической зависимости окостеневшего языка и окостеневшей социальной жизни, но настоящим производством, которое освобождает нас от власти привычных вещей и позволяет создать какую-то новую «вещь», например, вещь искусства или какой-то полезный социальный или политический обычай. Для этого недостаточно только ресурсов языка, нужен и сам ответственный субъект, но этот ответственный субъект присоединяется к «энергии» языка и тем самым создаёт новые ценности вместе с новыми понятиями. Шпет дополняет неокантианское учение о ценностях (учение Г. Риккерта) гегельянским учением об образовании понятий — и это позволяет создать целую социальную программу развития языка. Внутренняя форма в ней относится к творчеству и энергии, внешняя форма — к становлению социальных обычаев, а «становящееся в культуре бытие находит свое разумное оправдание в осуществлении разумного смысла по формам разума же».
Шпет здесь близок немецкому ученому Эрнсту Кассиреру (1874—1945) — его работы он внимательно читал, хотя это и не умаляло его оригинальности. Согласно Кассиреру, если излагать его трехтомник «Философия символических форм» (1923, 1925, 1929) культура и искусство начинаются с «функции выражения», иначе говоря, с возвращения к объекту в его непосредственности. Так, для архаической танцовщицы, надевшей маску божества, еще нет ни репрезентации божества, ни какого-либо способа прибегнуть к божеству отдельно, есть только само становление-божеством, которое и тождественно выражению. Но далее, с развитием культуры, непосредственная нерасчлененность переживания и выражения, та самая энергийность, уступает социальному языку, который выстраивает порядки реальности, различая символы и обозначаемое, то есть вычленяя вещи в их вещественности. В таком случае, любое появление научной мысли оказывается мобилизацией символа на порождение символических систем, которые способны захватывать уже как бы широкие зоны реальности. Таким образом, у Кассирера научная мысль действует так, как согласно Шпету действует вся культура. В этом смысле Шпет интереснее Кассирера, потому что исходит из того, что строгая мысль не просто контролирует символ, но интерпретирует его — Шпет стоит ближе к герменевтике, искусству толкования, чем к феноменологии в варианте Кассирера.
Говоря о советских социолингвистах, мы не можем обойти вниманием крупнейшего кавказоведа Николая Яковлевича Марра (1864—1934). Марр был авангардистом по характеру, его сын Юрий был авангардным поэтом. Марр исходил из того, что язык развивается вместе с общественно-экономическими отношениями; грубо говоря, феодальный язык отличается от буржуазного языка. Он указывал на то, что ни из чего не следует, что речь связана со звуком. Вполне могли бы развиться и жесты в качестве средства общения. То есть язык не то же самое, что звуковой разговор. Но раз уж появились звуки, то они появились из трудовых отношений, из необходимости обозначать отдельно субъект труда и объект труда, указывать на сообщников по труду и призывать их к труду.
Поэтому в начальном звуковом языке, думал Марр, было очень мало слов, он даже пытался найти четыре первых слова всего человечества, из которых произошли все остальные слова всех языков. Далее язык развивается и усложняется, по мере усложнения трудовых и экономических операций, в нем появляется множество слов и форм, но всё равно границы ему задает общественно-экономическая формация: скажем, рабство требует назывных предложений, пусть даже сложно устроенных, как бы заклинаний и приказов, а феодализм создает более сложную систему модальностей, разные времена и наклонения, что отвечает уже отношениям аренды, а не рабства. В идеях Марра смешивались тонкие наблюдения по истории культуры с совершенно фантастическими допущениями. В центре его внимания были «яфетические» языки, как он называл языки народов, многие столетия бывших под угнетением — в этих языках, по его мнению, содержится наибольший революционный потенциал и при этом сохранилось больше указаний на состав праязыка всего человечества. В 1950 году на наследие Марра обрушился И. В. Сталин, исходивший, вероятно, из того, что СССР установил господство в Восточной Европе и других странах, при этом местные языки никак заметно не поменялись при переходе от капитализма (или феодализма со слабыми капиталистическими отношениями, в случае Монголии) к социализму. Марр представлял авангард, а Сталин — большой стиль, легко сочетающий элементы, относящиеся к разным эпохам.
Итоги развития советской социолингвистики 1920-х годов подвел Евгений Дмитриевич Поливанов (1891—1938). Он был человеком уникальной судьбы: аристократ, филолог-китаист и японист, один из заместителей Троцкого по Коминтерну, он пытался организовать революцию в Китае и даже в Японии, много работал в республиках советской Средней Азии, учреждая систему лингвистического образования, что тогда называли «культурным строительством», создавая грамматики и изучая культурное наследие бухарских евреев, был расстрелян как троцкист. Он публично критиковал Марра за его учение о «яфетических» языках, считая, что это учение пренебрегает диалектами, опираясь в основном на письменные памятники и фиксации слов из одних языков в других языках, тогда как диалекты показывают огромное фонетическое разнообразие, не позволяющее так уж просто реконструировать мнимый праязык человечества. Поливанов считал, что для изучения китайского языка надо многие часы проводить в китайских прачечных, призывал к применению включенного наблюдения при систематизации диалектов и к учету социального и этнического профиля носителей языка при определении языковой нормы.
В отличие от Марра, который обращался к праязыку угнетенных, Поливанов смотрел в будущее: язык для него только тогда язык, когда имеет будущее. Социальные факторы определяют не столько текущее языковое употребление, которое может быть весьма традиционным и рутинным, сколько «конечную цель языкового развития». Например, появление рабочего класса не столько обогащает или деформирует язык, сколько направляет его эволюцию: фонетические и семантические процессы начинают идти быстрее, язык становится проще и прозрачнее, позволяет быстрее и прагматичнее обмениваться необходимой информацией и инструкциями. То есть социальная среда решает не то, как изменить язык, а запустить или не запустить какие-то изменения, она — катализатор языка, она дает старт уже назревшим изменениям в языке. Поэтому социальные группы не столько меняют язык под себя, сколько позволяют языку достичь цели своего развития, прозрачности и точности — здесь концепция Поливанова напоминает учение Аристотеля об энтелехии, в отличие от поиска Марром своеобразных платоновских идей, стоящих за отдельными значениями и употреблениями.
Некоторые лингвисты сейчас критикуют Поливанова и говорят, что власть рабочего класса не слишком ускорила развитие русского языка, скорее, наоборот, бюрократический язык в советское время стал еще дальше от разговорного. Но Поливанов ответил бы, что кроме того, что рабочий класс не стал по-настоящему господствующим, это ускорение просто видно по созданию общих языков там, где прежде были диалекты и жаргоны различных групп. Даже неофольклор рабочих, частушки и анекдоты, вошли в политическое поле, стали частью поля политической дискуссии, и тем самым ускорили становление общего политического языка, хотя, конечно, когда за частушку могли посадить, развитие такого общего языка блокировалось. Ликвидация безграмотности вполне создала общий язык официального быта, язык технического управления, другое дело, что этот язык часто переподчинялся языку бюрократии.
Также Поливанов использует метафору симфонии: каждая социальная группа исполняет какую-то партию, но кто будет первой скрипкой, влияющей на общее восприятие симфонии? Это будет тот, чье языковое употребление престижно: например, в советские 1920-е это были рабочие. Язык тогда не столько грубеет, сколько получает новые возможности для своей сборки: язык рабочих имеет тот профессионализм, конкретность и ловкость, которой не было в языке прежних элит. Но разумеется, из симфонического оркестра никого нельзя выгонять, как раз это обеднит язык и сделает его невнятным, нельзя ничьи употребления объявить ненужными. Ведь язык развивается неравномерно, и изменения в фонетике не синхронны изменениям в синтаксисе, и при простом исключении каких-то групп мы можем получить резкий и кричащий язык, где какие-то изменения произошли, а какие-то, не менее нужные, не произошли. Фразеологизм можно ввести сразу, а вот в фонетике медленно накапливаются изменения — а ускоренное развитие одного при медленном развитии другого выглядит некрасиво. Роль грамматика, регулятора языка — это роль дирижера, который показывает, где звук должен оказаться сильнее, чтобы вся симфония звучала ясно. Так социолингвистика объясняет функционирование языка в разных социальных слоях, но так, что категории, указывающие на изменение, не упрощают соотношения между этими слоями.