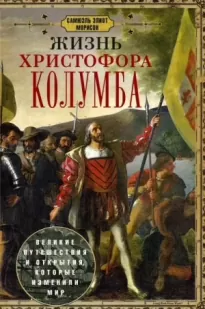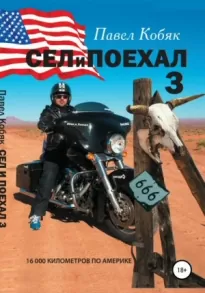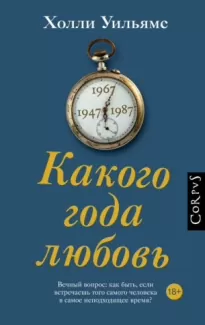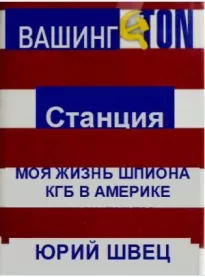Америго. Человек, который дал свое имя Америке
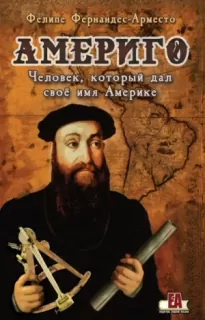
- Автор: Фелире Фернандес-Арместо
- Жанр: Биографии и Мемуары
Читать книгу "Америго. Человек, который дал свое имя Америке"
«Они все решительно направлялись в сторону лодки. Николау Коэльо сделал им знак, чтобы они положили свои луки, и они послушались. Но он не мог говорить с ними или объяснить им свои намерения каким-то другим способом из-за шума волн, накатывавших на берег. Он просто бросил им красный колпак, льняную шапочку, которая была у него на голове, и черную шляпу. И один из них бросил ему шляпу с большими перьями и маленькой короной из красных и серых перьев, наподобие попугайных. Другой дал ему большую ветвь, покрытую небольшими белыми бусинами, похожими на маленькие жемчужины. Мне кажется, что адмирал посылает эти предметы Вашему Величеству. И так как было очень поздно, экспедиция вернулась на корабль, не преуспев в дальнейшем общении с ними из-за неспокойного моря»[304].
Хотя аборигены не были такими робкими субъектами, какими они изображены на гравюрах к изданиям Колумба, описанные встречи выглядят мирными и пристойными. Каминья обнаружил простых, вежливых и настроенных на торговлю людей. Взаимное непонимание – не следствие культурной несовместимости, просто общению помешало неспокойное море. Более близкие контакты с двумя аборигенами чуть дальше к югу подтвердили первоначальное впечатление. «Один из них делал нам жесты, которые как будто указывали, что где-то здесь есть золото и серебро и что он хотел купить четки с белыми бусами за золото». Во всяком случае, «мы так его поняли, потому что это совпадало с нашими желаниями. Если, однако, он пытался сказать нам, что просто возьмет бусы и ожерелье, то нам не хотелось это так понимать, ибо мы не собирались ему их отдавать»[305].
Обстоятельства вынудили наблюдателей изменить свой взгляд на аборигенов и признать, что их натура сложнее, чем им вначале показалось. Некоторые местные сообщества реагировали с подозрением или воинственно на прибытие чужаков. Мирно настроенные поначалу люди обнаруживали грубость и неприветливость, когда больше узнавали о хищнических намерениях своих гостей и их жадности. Хотя число местных жителей, встреченных людьми Кабрала, перевалило за сотню, мирные соглашения продолжали соблюдаться, но Перу Ваш де Каминья наблюдал за всем этим с возраставшим беспокойством. Аборигены, когда их просили уйти, не уходили далеко. Их речь была неразборчивой из-за ее «грубости». Их привычка исчезать после обмена товарами становилась всё более тревожной.
«Я заключил из этих фактов, – написал Каминья, – что они были дикими, невежественными людьми, именно по этой причине они столь робки. Но они крепки здоровьем и очень чистые. Так что я даже еще больше уверен, что они подобны диким птицам или животным, чьи перья и волосы воздух делает более утонченными, когда они на воле, а не в домашних условиях, и чьи тела так же чисты и красивы, как это только возможно. Из сего я заключаю, что эти люди обитают не в домах или жилищах. Воздух, в котором они вскармливались, делает их такими, какие они есть. Мы, во всяком случае, не видели никаких принадлежащих им домов, ни чего-либо, на них похожего»[306].
Поскольку они старались держаться подальше от португальцев, аборигены казались де Каминье всё более похожими на птиц и зверей; они переходили из человеческого ряда в очевидно монструозный и полудикарский мир, из которого их можно и даже нужно изымать насильно.
Веспуччи после мирных поначалу контактов вскоре встретил аборигенов, оказывавших сопротивление. Исследователям, опасавшимся за свои жизни в разгар жаркой схватки, вдохновленным молитвой и сплачивающим криком смелого, но неназванного товарища, пришлось их убить, чтобы самим не погибнуть. Эпизод выглядит как героическая вставка. Более серьезным по своим последствиям для будущих отношений между аборигенами и новоприбывшими стало обнаружение каннибализма. Колумб сообщал о таких вещах в отчетах о своем первом путешествии на основании того, что он узнавал от местных информантов, но не хотел в это верить, пока во время своего второго путешествия не нашел неопровержимые доказательства каннибализма на Малых Антильских островах: беглецы, предполагавшиеся жертвы каннибальского праздника, и человеческие тела, разрубленные для закладывания в варочный котел. Колумб, однако, был способен различать хороших аборигенов и плохих. Араваки были хорошими, карибы – плохими. Карибы поедали араваков, но араваки не ели карибов.
Для Веспуччи ситуация складывалась посложнее. В его Эдеме имелись змеи в облике человеческом. Золотой век был изъеден темными пятнами. Одни и те же люди были и образцами высокой морали, и воплощением животных пороков. «И мы узнали, что они были расой, которая называется каннибалами, и бо́льшая их часть или все они из этого племени питаются человеческим мясом: и это, ваше Высочество, есть безусловный факт». Влияние Колумба вновь заметно в том, что писал Веспуччи. Некоторые детали, добавленные флорентийцем, можно найти и в отчетах Колумба – например, каннибалы, которые на каноэ нападали на соседей; части человеческих тел, подготовленные для жарки. Другие были то ли придуманы, то ли являлись подлинными наблюдениями. «Женщин они не едят, но только держат их как рабынь»[307]. Это, похоже, было обычной практикой тупи, чьи праздники каннибализма были формой ритуального принесения в жертву пленников войны; вражеские воины поедались в знак победы и, возможно, чтобы присвоить доблесть врагов посредством их буквального поглощения. После своего второго путешествии Веспуччи, впрочем, внес уточнения. Каннибалы, объяснял он, воспитывались вместе с пленными женщинами «и через некоторое время, когда дьявольская ярость охватывала их», они убивали матерей и их детей, и поедали их[308]. Этот красочный эпизод попал в печатные версии и захватил воображение граверов. Один абориген, с которым разговаривал Веспуччи, утверждал, что съел более двухсот жертв, «чему я верю безусловно, и довольно об этом»[309].
Влияние литературной традиции, в которой писал Мандевилль, вновь обнаруживается в отчете Веспуччи. На острове Ламорий, как он утверждает, у аборигенов «есть гнусная привычка, ибо они поедают человечину более охотно, чем что-либо еще… Торговцы привозят сюда детей на продажу и местные жители их покупают. Тех, которые поупитаннее, они поедают. Тех, что похудее, они откармливают, а затем убивают и тоже поедают. И они говорят, что вкуснее этого мяса ничего нет»[310]. Читатели вспомнят, что в других отношениях Ламорий в изображении Мандевилля был образцом в моральном отношении. Также и в «новом свете» Веспуччи невинность и дикость идут как будто рука об руку.
Отчего такие виляния или, по меньшей мере, нестыковки? Зачем представлять аборигенов одновременно и хорошими и плохими? Зачем такое странное сочетание аборигенов: встреченных Колумбом в первом путешествии – робких, мирных, послушных, и злобных каннибалов из второго? Ощущения Веспуччи, как и ощущения Колумба, изменялись по мере того, как он знакомился с людьми разных культур. По мере перемещения Колумба по карибскому бассейну во время его первого путешествия было заметно, как менялись его представления по двум направлениям. Во-первых, усиливалось разочарование, переходившее в отчаяние из-за бедности ресурсов и коммерческих возможностей. Это заставляло его всё больше задумываться о местных жителях как о потенциальных рабах; практически ничего другого острова предложить не могли. С другой стороны, при переходе от маленьких, бедных, лежавших на отшибе островов к большому центральному острову, который он назвал Эспаньола, Колумб отмечал рост благосостояния и политической умудренности у встречаемых им людей.
Веспуччи также привел в большее соответствие свои представления и ожидания. Он прибыл в качестве крупного дельца, рассчитывая найти наивных торгашей, которые станут продавать ему жемчуг задешево, и людей, подобных тем, которых описывал Колумб, живущих как райские птицы и не знающих пороков. К моменту, когда он навсегда оставил Новый Свет, Веспуччи стал автором, которому нужна была хорошая история. Отсюда его увеличивающееся внимание к причудливым и сенсационным рассказам. Каннибализм продавался. У европейского читателя он вызывал сладкую жуть, которую было не страшно испытывать у домашнего очага. Эти места в текстах Веспуччи действовали на читателей гораздо сильнее, чем прочие его заметки. На всех гравюрах из ранних изданий его текстов есть сцены каннибализма с присутствием украшенных перьями тупи, беззаботно готовящих на костре человеческие тела.
Более того, в текстах наметился конфликт интересов. С одной стороны, ему хотелось представить аборигенов послушными, приятными в общении гражданами locus amoneus или добиться того, чтобы у читателя в голове возникали картины гуманистического толка из золотого века. Также от него требовалось следовать литературному представлению о «хорошем язычнике», предъявить нравственную модель, служащую упреком греховному христианству. С другой стороны, нужно было зарабатывать деньги. Опыт Колумба показывал, что порабощение аборигенов было единственным способом этого добиться. О том же свидетельствовал собственный опыт Веспуччи в качестве наемного работника у Джианотто Берарди (стр. 74–85). По уже знакомым нам причинам предполагаемым жертвам порабощения требовалось приписать преступления против естественного закона. Такие преступления выводили их из-под защиты закона и легитимировали в качестве мишеней для принуждения и насилия.
И я продолжаю настаивать, что Веспуччи так никогда и не освободился от представлений, навязанных ему его же кругом чтения. Зависимость от литературных источников не означает, что его отчеты не соответствовали реальным наблюдениям – просто он выбирал из них нужные. Большинство наблюдателей при переносе на бумагу увиденного пользуются литературными приемами – построение фразы, художественные образы и интеллектуальный блеск – взятыми из ранее прочитанных ими книг. Наиболее литературным (и с явным намерением произвести впечатление) из всех его пассажей об аборигенах является эпизод, местом действия для которого Веспуччи определяет деревню на «острове гигантов», расположенную в 15-ти лигах от побережья. Этот образ позаимствован, вероятно, у Данте, хотя он достаточно общий для рыцарских романов позднего Средневековья. Как мы видели (стр. 150–152), многие предтечи Дон Кихота отправляются в море, дабы в сражениях с гигантами завоевать островное королевство, что в развязке обычно сочетается с женитьбой на принцессе. Когда Мандевилль поместил свой мешок с чудесами на островах в океане восточнее Китая, земля гигантов представлялась читателю наименее сказочной – если сравнивать с островом василисков с изумрудными глазами или островитянками, которые радовались гибели собственных детей. Гиганты Веспуччи не сильно отличаются от гигантов Мандевилля. Они обнаженные, если не считать звериных шкур; едят сырое мясо и пьют молоко. У них нет жилищ. «Они предпочтут человечье мясо любому другому». Они без раздумий захватят и убьют любого, кто опрометчиво высадится на их берег[311].
Веспуччи скомпоновал все эти традиционные представления в одно блюдо и включил в свой отчет. Гигантские женщины, как он пишет, напоминали Пентесилею и людей Антеев (стр. 142–143). Женщины принимали исследователей со скромностью или робостью, но одна из них «явно, – добавляет Веспуччи, – более свободная в своих поступках дама», – пригласила их подкрепиться. Первым намерением визитеров было украсть парочку диковинных женщин «в качестве подарка нашему королю», но прибытие группы гигантов-мужчин заставило их отказаться от этой идеи. Последовал цивилизованный обмен любезностями: «Мы показали им знаками, что мы мирные люди и путешествуем, чтобы повидать мир». Хотя гиганты были плодом литературной фантазии, рассказ показывает, что традиционные темы балансируют на границе выдуманного и реального опыта, ибо следующие исследователи Атлантического побережья Южной Африки продолжали веками искать встречи с гигантами Веспуччи. Дело кончилось тем, что Патагония получила название, которое буквально означает «Земля большеногих», и ее туземные жители, не будучи слишком уж высокими, постоянно принимались европейскими визитерами за мифических гигантов.