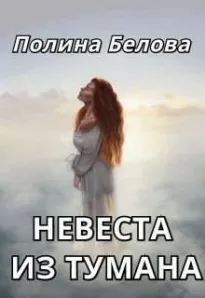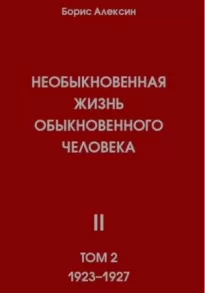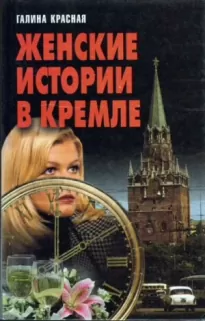Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 3. Том 1
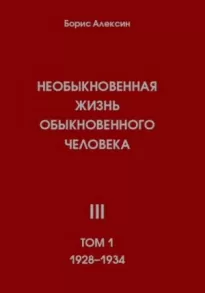
- Автор: Борис Алексин
- Жанр: Биографии и Мемуары / Историческая проза
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 3. Том 1"
В ходе путины пришлось срочно перестраиваться. Тихонов или Машистов с одним из своих помощников, которых они успели себе подобрать, вынуждены были организовывать какое-то своё подсобное хозяйство для обработки выловленной рыбы. В течение нескольких дней на берегу бухты Диомид поставили примитивный навес, под которым на кольях растянули брезентовые чаны, в них и проводили засолку иваси. Простейшая обработка давала настолько низкосортную продукцию, что, по существу, являлась её порчей, но другого выхода не было. Иваси по нежности и вкусовым качествам ничем не уступала средиземноморским сардинам, и консервы заводов ДГРТ под фирменным названием «Маяк», завоевали славу на международном рынке, не говоря уже о внутреннем. Спрос на них был неограничен, а Морлов вместо десятков миллионов банок иваси производил обыкновенную мелкую селёдку, реализуемую на внутреннем рынке вторым сортом. В результате эта работа вместо валюты приносила ничтожную прибыль.
Чтобы как-то повысить качество изготовляемой продукции, Машистов придумал на этом же берегу построить примитивную коптильню и обрабатывать иваси горячим и холодным копчением. В таком виде рыба шла более высоким сортом, но, если солёную упаковывали в обыкновенные бочки, которых в ДГРТ изготавливалось достаточно, то для копчёной иваси были нужны небольшие трехкилограммовые ящики. Клёпку для них удалось достать без труда, а вот сбивание вызвало серьёзную задержку — не хватало рабочих. Осенью, когда копчушка пошла в ход, сбиванием тары для неё занялись почти все работники управления, в том числе и Алёшкин. Он поздними вечерами, иногда вместе с женой в своей квартире, сидя на низенькой табуретке, усердно сколачивал из тонких дощечек один ящик за другим.
Чтобы покончить с описанием работы сейнеров, следует в двух словах рассказать, почему их уловы были такими удачными. Дело в том, что сейнеры, как, впрочем, и другие суда Управления морского лова, были обеспечены так называемыми активными орудиями: они не ждали, как кавасаки, у берега, пока рыба забредёт в их невод, а сами, уходя далеко в море, искали идущую рыбу. Окружали косяки сетью-неводом и забирали всё, что было окружено. В их распоряжении не было таких совершенных средств обнаружения рыбы, какими оснащены рыболовецкие суда в настоящее время — радиолокаторов, разведывательных самолётов, эхолотов, но и рыба тогда, особенно иваси, шла такими частыми и крупными стаями-косяками, что более или менее опытному рыбаку обнаружить движущийся косяк большого труда не составляло. Дальше всё зависело от опытности капитана, ловкости команды, состояния мотора судна и качества снасти.
Выметать невод нужно быстро, и в то время как один из сейнеров стоял на якоре или дрейфовал, другой, волоча за собою выброшенную сеть, иногда длиною чуть ли не в милю, должен был успеть обогнуть косяк рыбы и окружить его сетью. Иногда это не удавалось сделать. Манёвр выполнялся в открытом море, где даже при небольшом ветре такие хрупкие судёнышки, как сейнер, бросает в самых различных направлениях, а его мотор перегружен тянущимся за ним тяжёлым неводом, который грозил каждую минуту намотаться на гребной винт. Если это учесть, то будет понятно, что работа была не из лёгких. Первое время сейнеры ходили ещё в одиночку, и завоз невода проводился лодкой, идущей на вёслах. Так что понятно огорчение и обида рыбаков, когда пойманная с таким трудом рыба, доставленная к промыслу, в конце концов, выбрасывалась за борт.
В этот период лова сейнеры были главными производственными единицами Управления морского лова, поэтому нет ничего удивительного, что основное внимание всех производственников, а к этому времени вместе с Машистовым их было уже пять человек, уделялось работе этих судов. Но были ещё два дрифтера. Эти небольшие пароходы водоизмещением около 120 тонн ловили следующим образом: они выбрасывали большие глубоководные сети, сами ложились в дрейф (отсюда и название дрифтер), и увлекаемые ветром и течением в продолжение нескольких часов, а иногда и суток, волочили эти сети за собой. Затем выбирали их, освобождали, и если рыбы было немного, то повторяли всю процедуру сначала. В это время команда сортировала попавшее в сеть. При больших уловах этого сделать не успевали, и дрифтер привозил продукцию смешанную. Таким образом вылавливалась придонная рыба: камбала, треска, бычки, крабы и другие морские животные, находившиеся в глубине.
Эта продукция охотно раскупалась китайским населением Владивостока до 1931 года, но впоследствии, когда большая часть китайцев была выслана, а русские покупали только рыбу и крабов, то всё остальное приходилось перерабатывать на тук. Правда, его реализовывали за границу.
Характер лова этими судами был неудобен в заливах Тихого океана, окружавших Приморье, где вёлся промысел. Сильные прибои и ветры бывали настолько часто, что дрифтеру редко удавалось провести свой дрейф до конца — ему приходилось спешно выбирать сеть и удирать в какую-нибудь бухточку, чтобы отстояться в набежавший шторм. Производительность дрифтеров оказалась настолько низкой, что уже в следующем году их стали использовать как посыльные суда, а также для снабжения тральщиков, хотя и эта роль им оказалась не под силу. Единственное, чем оправдывалось в дальнейшем их существование, — это сбор и переработка портящейся или уже испорченной продукции на тук. В связи с перегрузкой производственников руководить работой дрифтеров пришлось начальнику отдела снабжения Аристархову.
Два траулера, как мы уже говорили, работали в Татарском проливе и Охотском море, на них были опытные капитаны, и в их задачу входило не только, или, вернее, не столько добыча рыбы, хотя производственный план они и имели, сколько разведывание мест скоплений и миграции трески, а главным образом, поиск так называемых камбальных банок. Дело в том, что в определённое время года (осенью и весной) камбала собирается на песчаных отмелях на глубине 20–25 метров и находится там слоем, доходящим толщиной до метра. Банки эти бывают невелики, иногда всего до полумили в окружности, но запасы рыбы даже на одной такой банке настолько огромны, что в состоянии обеспечить выполнение годового плана нескольким траулерам. К нашему, а вернее, к стыду дальневосточных рыбопромышленников, о местоположении камбальных банок в водах Приморья к 1931 году почти ничего не было известно. Да это и немудрено: лов камбалы производится специальными средствами (тралами) на большой глубине, удалённо от берега, а при этом было достаточно рыбы, и притом лучшего качества, которую можно легко добывать с берега.
Вследствие того, что производственная мощность вновь созданного управления была ещё сравнительно мала из-за множества неполадок со сдачей и обработкой пойманной рыбы, а также и потому, что организационные расходы нового учреждения были пока очень велики, финансовое положение Морлова оказалось чрезвычайно напряжённым, доходящим порой до катастрофического. Именно этим вопросом, как и вопросом снабжения, занимался Борис Алёшкин. Если в деле финансирования заведующий финсчётным отделом Воробьёв оказывал Борису своим опытом и обширными знаниями дела неоценимую помощь, и они довольно успешно, во всяком случае, в 1931 году, добывали необходимые средства на покрытие всё возраставших расходов, получая различных ссуды в Госбанке, выкачивая всевозможного рода субсидии от ДГРТ и Востокрыбы (к тому времени уже создали такое учреждение, которое должно было координировать действия всех рыбопромышленных организаций Дальнего Востока), и каким-то образом выкручивались из затруднительных положений, то со снабжением дело обстояло гораздо хуже.
Аристархов, в прошлом — помощник капитана траулера, попал в снабженцы случайно, другого не нашлось. Он никак не мог наладить взаимоотношения с УСИТ ДГРТ, и очень часто его заявки-заказы удовлетворялись всего на 10–15 %, хотя необходимые предметы на складах имелись. Возможно, что такое отношение к Управлению морского лова со стороны некоторых работников ДГРТ было и умышленным, ведь в тресте служило много, и, очевидно, неслучайно, консерваторов, стремившихся доказать ненужность активного лова, поэтому неудачи — убыточность этой, конечно же, более прогрессивной организации добычи рыбы, злопыхателей только радовала. Так подтверждался их тезис, что, мол, не с нашим суконным рылом лезть в калашный ряд: то, что могут делать такие технически развитые страны, как Америка, Англия, Япония, нашей отсталой России-матушке не по плечу, дескать, ловили рыбку у берега ставными неводами, так и дальше продолжать нужно. Легко понять, что если бы такого мнения продолжало держаться советское руководство и передовые люди рыбной отрасли, то очень скоро все береговые возможности были бы исчерпаны, и рыбодобывающая промышленность СССР, по существу, прекратила своё существование. Может быть, кому-то это и было выгодно, но только не советскому народу, но в то время доказывать необходимость всё нового и нового субсидирования и регулярного снабжения молодой организации было очень трудно, и Борису Яковлевичу пришлось потратить для решения этих вопросов много сил и энергии.
Немало труда и нервов ему стоило и выполнение третьей поставленной перед ним задачи. Алёшкин должен был комплектовать команды, отправлявшиеся за изготовленными в Италии и Германии траулерами. Как известно, таких судов было заказано двадцать. По полученным данным, к осени 1931 года первая половина их была практически готова, а к середине 1932 года должны были быть сданы все. Командам следовало прибывать на верфь за один-два месяца до окончания постройки судна, чтобы, наблюдая за ходом работы, вовремя заметить и потребовать устранения тех или иных дефектов строительства. Команда тральщика состояла из 32 человек. В первую очередь должны были выехать капитан, старший механик и радист, недели через две после них отбывала остальная часть команды. Поездка начиналась по железной дороге из Владивостока до западных границ Советского Союза, а затем через Польшу, Германию — в Гамбург или Милан, где строились суда. После окончания строительства, вместе с представителями международной регистровой организации Ллойда, команда должна была опробовать судно на ходу, получить так называемый Ллойдовский сертификат и отправиться сложным кружным путём мимо всей Европы, через Индийский и Тихий океан на новом судне, совершая путешествие в 20 тысяч километров, чтобы прибыть во Владивосток. На этот путь уходило около двух с половиной месяцев. Если учесть, что судно было сравнительно маленьким (250–З00 тонн водоизмещения), то трудностей в пути ожидалось немало. Следовательно, команды нужно было подбирать из опытных, бывалых моряков. Умение и знания в этом случае требовались от всех её членов, начиная с капитана до последнего матроса включительно.
Кроме того, все члены команды должны были зарекомендовать себя абсолютно надёжными людьми в политическом смысле, т. е. быть вполне преданными советской власти, а греха таить нечего: в то время среди жителей Владивостока, в особенности моряков, было ещё немало таких, которым советская власть пришлась не совсем по нутру и от которых в период пребывания их за границей можно было ожидать любых сюрпризов. Поэтому из многих и многих желающих поехать за пароходом в Италию или Германию, Борису Алёшкину приходилось отбирать единицы. Никаких помощников у него пока в этом деле не было, и все беседы с кандидатами, а также и проверку их через ОГПУ, он проводил лично. Но и это было ещё не всё. Требовалось получать соответствующие визы на право выезда в представительстве Наркомата иностранных дел и на право въезда в посольствах соответствующих государств. Правда, этот вопрос Алёшкин должен был улаживать только в отношении капитанов, их помощников и старших механиков, а весь остальной состав в Наркоминделе и посольствах оформляли нанятые капитаны сами. Так или иначе, а эта процедура требовала немало времени.