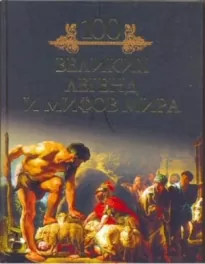Родное и вселенское

- Автор: Вячеслав Иванов
- Жанр: Философия
- Дата выхода: 1994
Читать книгу "Родное и вселенское"
Бои за тело героя
1. Античность и гуманизм
Под гуманизмом я разумею этико-эстетическую норму, определяющую отношение человека ко всему, что отмечено или служит внутренним признаком естественной принадлежности к человеческому роду; причем в основу этого отношения полагается, столь же независимо от каких-либо религиозных или метафизических предпосылок, сколь и от конкретно-социальных условий, построяемое и, следовательно, отвлеченное понятие о природном достоинстве человека, как такового, – признакам человечности приписывается положительная ценность и мерилом приближения к совершенству человеческой личности признается гармоническое развитие и равновесие этих, в положительном смысле определяющих природу человеческую свойств и способностей.
Колыбель гуманизма – эллинство, и в частности – ионийское племя эллинов, с его открытостью всему, «что в человеке человечно», с его восприимчивостью к чужеземным влияниям, с его демократическим общественным строем. Метрополией гуманизма становится афинское народоправство, где гуманистическую окраску принимают и вероучение о богах, и героический миф (как это сказывается в путях разработки художественных форм религиозного антропоморфизма, в типе афинского родоначальника Тесея, в образе Софокловой Антигоны), – где в указанном направлении толкуется борьба культурных начал, представляемых Азией и Элладой в эпоху греко-персидских войн, – где Эсхил изображает Прометея мучеником человеколюбия («филантропии»), – где общеэллинский культ юношеской красоты оправдывается философскою мыслью, – где ваяется идеал высокого изящества внутренно и внешне прекрасного человека (χαλος χάγαθός), – где наконец, – знаменательно и двусмысленно – человек провозглашается «мерою вещей».
Александрийский космополитизм и универсализм дает новую пищу и этому умонастроению (наравне с противоположным ему мистическим); а греческая образованность на почве Рима, – особенно в лице такого истолкователя и распространителя эллинских идей, как Цицерон, – на все века ставит античность под знак гуманизма, как и воспринимают ее потом так называемые «гуманисты» целого ряда последовательных «возрождений» классической древности в средние века и в новое время – даже до наших дней.
2. Возражения материи и духа
Нет надобности говорить, что историческая действительность древнего мира, покоившегося в своем политическом и общественном укладе на завоевании и рабовладельчестве, отнюдь не отвечала гуманистической идеологии, которая относится к жизни, ее породившей, как Афродита Анадиомена к семеноносной пучине морской, и возвышается над ее мутною стихиею, как отрешенная от нее в своей божественной ясности эллинская скульптура.
Но примечательно, что не история только, с ее, конечно, не идеями предопределенным ходом, но и отвлеченная политическая мысль древних теоретиков государства и общества, каковы Платон и Аристотель, вовсе не являет черт гуманизма, – более того: прямо ему противоречит. Варвар и скиф, раб и свободный противопоставляются этими мыслителями в категории родового различия, и в человеке, как в существе градостроительном, или гражданственном, – как в «животном политическом», по знаменитому Аристотелеву определению, – этот его признак выдвинут и развит с исключительностью, в корне отрицающею личное самоопределение, личную самобытность, даже гармоническое раскрытие целостной личности во всем многообразии ее даров и сил.
Не менее чуждыми духу гуманизма остаются не только первоосновы религиозного сознания, при всем антропоморфизме господствующих представлений о божестве, но и мистические представления и умозрения позднейшей поры. Если в ветхом завете эллинства непроходимая пропасть утверждена между счастливою семьею небожителей и жалким родом смертных, населяющих землю, если тогда единственным уравнительным началом человечности признается равенство в рабстве и смерти, то и для орфиков «Олимп – улыбка Бога, слезы – род людской»: человек – смесь мятежного, хаотического, «титанического» начала, зараженного первородным грехом, присущим материи, и духовного огня Дионисова; человек освобождается от буйного Титана в себе только путем медленного искупительного процесса; и нет во взгляде этих языческих аскетов и гностиков на человека, каков он ныне, каков он здесь, ни гуманистического оптимизма, ни горделивого гуманистического самосознания и самодовления.
Принцип очищений, посвящений в таинства, благодатных пакирождений из лона Персефоны ставит на место устойчивого гуманистического самоутверждения человеческой особи («homo sum»[66]) – динамическую проблему духовного возрастания; мистерии, эта подготовительная школа смерти, как бы обращаются к личности с призывом, который позднее повторит Гете: «умри и стань!» («stirb und werde»), с презрительным напоминанием, что доколе не постиг человек этой правды, он только унылый гость на темной земле («und solang du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde»), – с пророчеством, наконец, что, человек – нечто в нас, что должно быть превзойдено и преодолено, как еще столь недавно, со всею торжественностью провозглашения последнего итога последней человеческой свободы, возвещал Ницше.
3. Гуманизм и христианство
Так не было и в этом отношении принципиального противоречия между мистикою эллинского язычества и христианством. Последнее столь же пессимистически взглянуло на человеческую данность и еще углубило, осложнило, отодвинуло в беспредельную даль человеческое задание, чаемый образ преображенного человека.
Правда, оно же, с неведомым дотоле состраданием и благоговением, склонилось, как нежная мать, и к человеку в его конкретной наличности, в его неповторимой особенности; вздохнуло о трагическом сочетании в нем плоти и духа, рабства греху и свободы чад Божиих; возвело его в достоинство блудного сына царева и повелело ему возрастать до совершенства Отчего, до осуществления в нем Богочеловека. Правда, оно обещало его телесному составу не прелестную гармонию формы внешней, но целостное преображение его внутренней формы в день всеобщего воскресения; правда, оно, как всеми признано, впервые освятило и обожествило личность, принесло в мир откровение лица…
Но гуманизм не любит максимализма потусторонних надежд и последовательно должен был отвращаться от христианских посулов, как от сделки рискованной и убыточной для земного хозяйствования, для баланса человеческой энергии, идущей на непосредственно предлежащее строительство и украшение жизни. Неизменною осталась занятая им перед лицом христианства позиция – от афинских Ареопагитов, вначале одобривших было цветы Павлова красноречия2, а потом пожавших плечами и с усмешкой переглянувшихся, – до Анатоля Франса, и от Цельса до марксистов.
Когда рушилась героическая попытка средневековья построить земное общество по предполагаемой схеме иерархий небесных, человечество живо почувствовало, что гуманистическая идея есть сила конкретно-освободительная, что она, прежде всего, – здоровье, – и при первом расшифровании двух-трех строк из непонятных дотоле греческих манускриптов, при первом узрении вырытых из земли мраморных идолов обрадовалось, что «жизнь ему возвращена со всею прелестью своею». А обрадовавшись, столь твердо решило и сумело воспользоваться возвращенною жизнью, что сама историческая действительность с ее крепостническим преданием должна была склониться, хотя бы для вида, под ярмо гуманизма и стерпеть – «Декларацию прав человека и гражданина»…
4. Гуманизм и скифы
Но та же самая историческая действительность «градоустроительного животного» ныне, по-видимому, мстит за себя. И как бы много элементов старинного революционного предания, идущего от XVIII века, и красного культуртрегерства ни примешивалось к составу того мелинита, взрывы которого так перевернули вокруг нас вверх дном все, чего доселе еще не разрушили, – не на гуманистической закваске поднялось это тесто, и не напечешь из него опресноков, потребных для обоготворения «гордого человека», для ереси «человекобожия», соблазн коей усмотрели в нем некоторые религиозно-мнительные наши современники. Ибо есть в нем живая закваска, и имя этой закваске – воля Адама, – не благая и не злая сама по себе, скорее – благая и злая вместе, – к реализации своего единства, – тот же, стало быть, древний импульс, что сказывался еще в Платоновых прозрениях антигуманистического Града.
Кризис гуманизма есть кризис внутренней формы человеческого самосознания в личности и через личность. Изменяясь, эта форма стала эксцентрической по отношению к личности; последняя оказалась как бы бесформенной в себе самой. Воцарилось в душах смутное, но могущественное ощущение всечеловеческого целого и породило в них стихийную тягу к сплочению в собирательные тела. Гуманизм всецело основан на изживании индивидуации, отдельности и обособленности людей, их взаимной зарубежности, потусторонности и непроницаемости, – «автаркии» гармонического человека. Эта внутренняя форма сознания изжила себя самое, потому что личность не умела наполнить ее вселенским содержанием – и обратилась в мумию былой жизни или в тлеющий труп. Истлевающие останки внутренней формы заражают личность миазмами тления.
Героический гуманизм умер. Мы ведем бой, как в былях Гомера, за тело героя, уже бездыханного, чтобы не отняли его у нас и не предали поруганию одичалые полчища бесноватых, чтобы нам досталось умастить его, и оплакать, и похоронить, и великолепно восславить на грядущих тризнах… Впрочем, я говорю только о гуманизме, который смертен, а не о душе эллинства, она же бессмертна. И недаром еще так недавно она явилась нам в сновидении отделенною от своей благолепной, но тленной формы: Дионисом приснилась она вдохновенному Ницше, этому последнему и трагическому гуманисту, преодолевшему в себе гуманизм хитрым безумием и самоубийственным исступлением, как налагает на себя руки обуянный Аянт, – отвергшему и презревшему человеческую норму, как «человеческое, слишком человеческое», и возвестившему «Сверхчеловека». Ибо противится гуманизму Дионис и натравливает на него своих мэнад, как на Пентея.
5. Показания искусства
Искусство, предчувственно отмечающее внутренние процессы жизни, во всяком случае уже не находит злачных пажитей в пределах гуманизма. Идя вперед, куда глаза глядят, неприметно вышли из его царства и невесть где ныне бродят кочевники красоты.
Так, разрыв Скрябина со всем музыкальным прошлым был разрыв современного гения с гуманизмом в музыке. Его гармония выводит за грани человечески обеспеченного, исследованного и благоустроенного круга, подобного темперованному клавиру Баха. Это отщепенство от канона, основанного на идее единства нормативной деятельности человеческого духа, – от канона не эстетического только, но существенно этического, – есть музыкальный трансгуманизм, долженствующий всякому правоверному гуманисту показаться даже не хаосом, «родимым» и «звезду рождающим», а «безумья криком ужасным, потрясающим душу», пэаном неистовства и разрушения.