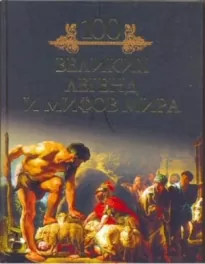Родное и вселенское

- Автор: Вячеслав Иванов
- Жанр: Философия
- Дата выхода: 1994
Читать книгу "Родное и вселенское"
Моя тоска[116]
Пусть травы сменятся над капищем волненья
И восковой в гробу забудется рука:
Мне кажется, меж вас одно недоуменье
Все будет жить мое, одна моя тоска…
Нет, не о тех, увы! кому столь недостойно,
Ревниво, бережно и страстно был я мил…
О, сила любящих и в муке так спокойна,
У женской нежности завидно много сил.
Да и причем бы здесь недоуменья были?
Любовь ведь – светлая, она – кристалл, эфир…
Моя, безлюбая, дрожит, как лошадь в мыле:
Ей пир отравленный, мошеннический пир.
В венке из тронутых, из вянущих азалий
Собралась петь она… Не смолкл и первый стих, –
Как маленьких детей у ней перевязали.
Сломали руки им и ослепили их.
Она бесполая, у ней для всех улыбки,
Она притворщица, у ней порочный вкус;
Качает целый день она пустые зыбки,
И образок в углу – Сладчайший Иисус.
Я выдумал ее – и все ж она виденье,
Я не люблю ее – и мне она близка;
Недоумелая, мое недоуменье,
Всегда веселая, она – моя тоска.
Нет, не любовь будет ему в сердце «залогом от небес»… Есть у него другой залог: это его любовь к истинной красоте, к абсолютной музыке – такая большая и крепкая любовь, что наш эстет становится «безлюбым» и к красоте воплощенной, неутомимо ищет ее и неумолимо отвергает, предпочитая ей все, что только выстрадано и пронзительно-уныло, и даже все, на чем напечатлелась болезненная ирония неподкупного духа. Он заподозривает горделивую и самодовлеющую в своей успокоенности, по-человечески «аполлинийскую» красоту как дурной и фальшивый перевод с чужого и почти непонятного языка, как фарисейство человеческого гения. Милей ему искаженная личина страдания, милей и бесстыдная гримаса сатира, нежели грубый и мертвый кумир Афродиты небесной. Его эстетизм приводит его на порог мистики, но только на порог, ибо он не смеет поверить в небесную и разве лишь смутно прозревает поэтическою мечтой, что какое-то предмирное забвение стало меж ним, слепым и оглохшим к музыке кифаредом, и когда-то слышанной – виденной – им песнью Евтерпы7. Несомненно ему только одно: что в его руках не подруга – кифара, когда-то умевшая петь, а «деревяшка»; и охотно он бросил бы ее или отдал бы Сатиру, чтобы тот, хоть по-своему, сыграл на ней, – и вот Сатир играет ему раздельно и внятно, а «соперник Муз» не узнает музыки, не слышит «ритма»…
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли…
Такова, по мысли Анненского, душа истинного поэта и его кара от всевышних, если они существуют, за то, что она возлюбила много. Лучше было бы ей остаться верной земле, бояться лиры и играть на лесной и дикой флейте, от которой пухнут красные губы Сатиров. Поэт-флейтист, вдохновляемый музыкой дубрав, не с неба занесший к нам несколько звуков, а повторяющий, как эхо, страстные восторги Матери-Земли и стенания ее, неутомно-рождающей, и темные прорицания ее глубин, правее перед лицом все уравновешивающей Справедливости и счастливее по своей судьбе: стихийными предчувствиями и ясновидением Земли он различает, не понимая, но благоговея, очертания божественной тайны, подобный вещим Сатирам, и живет в благочестивом мире с богами и всею тварью.
Но надменный дух побуждает человека подслушать олимпийские гимны: на лире пытается он воспроизвести устроительную гармонию сфер, и вот в веках рождается нищий скиталец, которого назовут, из жалости и презрения, гением, – слепой кифаред, с несколькими скудными нотами в диапазоне своей кифары и бедными гадательными словами, в которых еще не вполне остыл жар единой малой искры из огненного моря первоначальных откровений.
Драма «Фамира» – причудливое и странное «действо», наполовину трагедия, наполовину (и это соединение по-шекспировски гениально) «драма Сатиров» (σατυρικόν δράμα) – изображает приход в мир юродивого лирика, изменившего Земле и наказанного Небом. На его груди дощечка с надписью: «Соперник Муз»; в руке его полый черепаховый щит – все, что осталось от прежней кифары, – и в нем жребии, насыпанные богами. Птичка сидит на ею плече и слетает на зов, чтобы вынуть клювом жребий и заработать милостыню на хлеб гадателю, – мать его – нимфа, превращенная Гермесом в пичужку в наказание за то, что, узнав черты отца в сыне после своего двадцатилетнего эротического безумия, полюбила его преступно и, чтобы подкупить «безлюбого», доставила ему возможность достичь единственно желанного – услышать, хотя бы ценой состязания, песню Музы, но тут же заревновала к Музе и умолила Зевса-отца оставить сыну жизнь, но лишить его победы. Он же, и не думавший о состязании, но жаждавший только услышать Музу, был казнен забвением музыки и музыкальною глухотою и сам ослепляет себя, чтобы в тюрьме этой глухоты и этого забвенья сохранить нерастраченным и неоскверненным землей хотя бы бледный отсвет и последний отзвук неизреченной, невозродимой мелодии. И, как два провала в потусторонний мир, зияют в его глазных орбитах две черные ямы, из которых лилась потоками кровь, омытая губкой, что подносила к лицу его, держа в клюве, пернатая матерь.
Жалеть ли о нем?.. Быть может, –
Он слышит райские напевы…
Что жизни мелочные сны?..[117]
Таков Фамира, пренебрегающий флейтою, как он пренебрегает любовью; друг камней, в немом покое вкушающих блаженство высочайшего ведения; недруг жизни, и движения, и «перестроения линий», и всего, что от Диониса, оригийное служение которому он принимает, вместе с Пенфеем, за простое разнуздание плотской чувственности; царь-отшельник, надменный нищий, беглец от крова, от рода, от пола, от людей и от Души Мира, гений-идиот, саркастический Гамлет, скопческий аскет гармонии. Если струны Орфея движут скалы и лира Амфиона8 воздвигает самозданные стены, то песни Муз, по одному малоизвестному мифу, останавливают ход созвездий и течение рек. В Фамире мы видим мертвую точку аполлинийского искусства – погружение в последнюю, абсолютную недвижность созерцательного экстаза. Таково каменное упокоение его духа в умопостигаемых глубинах сознания, тогда как его ходячий гроб, подобно мертвой планете, на долгие, долгие годы обречен двигаться по миру устрашающим знамением божественного прикосновения. Ибо земная мать, изменившая правде Земли, как изменяет она и отцовскому Небу, отстраняя нисхождение к сыну небесной девы, не могла выпустить Фамиру земного из своих ревнивых объятий, – Зевсова дочь, священная блудница, безумная нимфа, ипостась души земной.
Борьба лиры и флейты, определившая целую эпоху в религии и культурной жизни Греции и закончившаяся их примирением, которое ознаменовало собою эру новой, гармонически устроенной и уравновешенной Эллады, породила все мифы о состязаниях с Аполлоном и Музами, и в числе их – миф о Фамире. Любопытно видеть, как это культурно-историческое событие отразилось в душе индивидуалиста-поэта наших дней, преломившись сквозь призму его идеалистического гуманизма. Анненский не пережил и не понял примирения; никогда не снились его мечте побратавшиеся противники – кифаред Дионис и увенчанный плюшем Пэан-Аполлон9. Но древняя антиномия религиозного и эстетического сознания, которую эллины определили как противоположность двух родов музыки: духовой – экстатической и устроительной – струнной, могла сделаться еще в наши дни личным опытом внутренней жизни поэта. Этот дуализм был, в музыкальных и античных терминах, завершительным отражением основного душевного разлада, основной двойственности в самоопределении Анненского. Мы знаем, что душа его была мучительно поделена между противоположными и взаимно враждебными мироутверждениями; но пронзительно-унылой в своей певучести и прозорливой в тайну больного сердца и дерзновенно-крылатой в мирах своенравной мечты, лучшей, чем жизнь, она все же стала только чрез очистительную силу своего благодатного страдания и недуга, своей – предводителем Мойр и Муз (кто бы ни был он, Феб или Дионис) – «предустановленной» дисгармонии.
Хоровожатый судеб нашего нового духовного творчества – не в обителях богов, а в земном воплощении – не кто иной, как Достоевский, пророк безумствующий и роковой, как все посланники Диониса. Он же в конечном счете, – а не французы и эллины, – предустановил и дисгармонию Анненского. То, что целостно обнимал и преодолевал слитный контрапункт Достоевского, должно было после него раздельно звучать и пробуждать отдаленные отзвучия. В свою очередь Анненский становится на наших глазах зачинателем нового типа лирики, нового лада, в котором легко могут выплакать свою обиду на жизнь души хрупкие и надломленные, чувственные и стыдливые, дерзкие и застенчивые, оберегающие одиночество своего заветного уголка, скупые нищие жизни. Их магически пленяет изысканный стиль и стих Анненского, тонкий и надламывающийся, своенравно сотканный из сложных, отреченных гармоний и загадочных антиномических намеков. Уединенное сознание допевает в них свою тоску, умирая на пороге соборности; но только то в этой новой напевности будет живым и обогащающим жизнь, что сохранит в себе лучшую энергию мастера – любвеобильно излучающуюся силу его великого сердца.
Заветы символизма