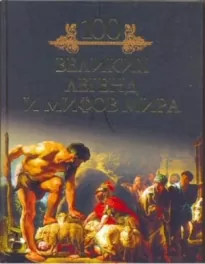Родное и вселенское

- Автор: Вячеслав Иванов
- Жанр: Философия
- Дата выхода: 1994
Читать книгу "Родное и вселенское"
II
Обряд правится богам, искусство обращается к людям: такое различение согласовалось бы с гипотезой о происхождении искусства из игры, но действительность не отвечает гипотезе. Искони люди привыкли свое лучшее отдавать в дар тем, кого Веды и Гомер равно величают «подателями даров», – и с тех пор как услышали от небесной Музы, что «одно прекрасное мило, а непрекрасное немило» (Феогнид), их первою заботою было сделать богослужение прекрасным. И если общее веселье, каким завершалось угощение невидимых гостей, давало наибольший простор выдумке и вымыслу, несомненно, с другой стороны, что творимое на праздничную потребу искусство веками сохраняет не только многие внешние черты, но и богомыслие обряда. Боги не покидают людей в их играх, люди в своих песнях и сказах не могут обойтись без богов. Прежнее различение лишь постольку оправдывается, поскольку священное действо окружено тайной, искусство же по природе своей (что «красота – нисхождение», видел и зачуравшийся от всякой метафизики Ницше), по своему основному влечению – открыто и сообщительно. Нетерпеливое, оно ищет разоблачить тайну богов, как умеет, не боясь произвольных догадок и противоречивых домыслов: оно гадает о богах мифотворческим воображением.
Однако сама сообщительность искусства предполагает некоторую сокровищницу духовных даров, откуда почерпается сообщение: ею владеют дочери Зевса и Памяти – Музы. С ветвию излюбленного ими лавра в руке нисходит видевший их и слышавший их голос юный пастырь овец – Гесиод – с горных пастбищ дубравного Геликона, неся в долы «вещую память о богах», которую боги в него «вдохнули». Музы напоминают эпическому певцу по порядку стародавние были. И те же Музы, но уже не как наперсницы матери, а как участницы олимпийского хоровода, предводимого Аполлоном, ручаются за лирического поэта, повинующегося в самой свободе своей их тонким внушениям, ими движимого, ими «вдохновляемого». Пусть, – как говорит Гесиод не без чувства собственного превосходства о своих соперниках Гомеридах5, – «много певцы вымышляют»: вдохновенное всегда оправданно, а сами Музы открыли ему, что они горазды на красные вымыслы, хоть умеют, когда захотят, вещать и сущую истину Поддельное же неубедительно и недолговечно, а лжесвидетельство – прямая обида богам. Ариона спасают они от волн морских, а Стесихора6, неправо обвинившего Елену, карают слепотой и не прежде возвращают ему зрение, чем он в «обратной песни» – Палинодии оправдал ее и восславил. Религиозные представления о священных (следовательно, во всяком случае культовых) истоках отдельных родов мусического творчества, о мироустроительной лире мифических певцов-теургов, о преемственном сане поэта, их позднего наследника, легли в основу Платонова учения о вдохновении и вместе с перечнем непререкаемых образцов были закреплены в александрийском «каноне», этих святцах эллинской поэзии.
Три особенности сообщают ей несравненную свежесть и вместе какую-то девственную строгость. Во-первых, соединение мифотворческой свободы с устойчивостью коренной формы мифического узрения. Во-вторых, точное различение родов поэзии по стилю, допускающее в округу Муз всякое изъявление, сообразное строю форм данного рода и изгоняющее из этой округи все по существу непоэтическое и поэтически неубедительное, каковы приемы витийства и рассудочные доводы. Втретьих, подчинение личного мотива и своеволия принципу объективной правды, необходимо присущей, согласно понятиям древних о сообщительности искусства, всякому вдохновенному сообщению.
Последнее замечание приводит нас к проблеме «субъективной» лирики, или, в терминах Ницше («Рождение трагедии»), к проблеме Архилоха. Почему древние не только в отзывах словесников, выражающих установившееся мнение, но и в монументальных двуликих изображениях сопоставляют с олимпийски вознесенным над жизнью Гомером дерзкого поэта седьмого века7, впервые осмелившегося в стихах своенравных и вызывающих поведать миру свои личные житейские опыты, страсти и пристрастия, обиду неудачного сватовства и похвальбу брошенным в бегстве щитом? Формальная заслуга Архилоха огромна: он художественно узаконил и ввел на века в поэтический обиход говорные (не для пения назначенные) иамбы, – ругательные иамбы обрядовых издевок и перебранок, подслушанные им на простонародных празднествах Деметры, богини его жреческого рода. Желчные Архилоховы иамбы еще звучат в поздних подражаниях Горация и в новейших подражаниях Горацию; их язвительным сарказмом напитал Пушкин свои строфы «На выздоровление Лукулла» и отповеди Поэта в споре с «Чернью», первоначально озаглавленном «Иамб». Энергический, гибкий, выразительный стих, укрощаясь, постепенно расширяет круг своего господства и, наконец, почти безраздельно завладевает драматическим диалогом сцены. Но как ни широко разрослось Архилохово насаждение – ведь и поныне среди стихотворных размеров преобладает иамб, – еще важнее было само дерзновение заговорить в поэзии не о всеобщем, неизменном и непререкаемом, а о частном, случайном, лично усмотренном и лично пережитом. Каким же чудом это зыбучее, прихотливое, обособленное, беззаконное показалось потомству нечуждым некоей объективной правды, было признано «вдохновенным» сообщением?
В этом суть проблемы. Отчего стольких стихотворцев, докучающих нам излияниями своих чувств, мы готовы отстранить ледяными словами Лермонтова: «Какое дело нам, страдал ты или нет, к чему нам знать твои волненья, надежды глупые первоначальных лет, рассудка злые сожаленья?»8 – и в то же время сочувственно откликаемся на признания других? Оттого, по-видимому, что в первом случае психологическая данность обнажается преждевременно, как таковая, и бытие переживается не претворенным в отдалившееся и в себе оформившееся визионарное инобытие, – между тем как во втором случае я, испытывающее аффект, предстоит как бы в зеркальном отражении, следовательно, отчуждении творческому я, уже свободному от наблюдаемого и изображаемого аффекта: перед нами не действительный Архилох, а сценическая маска Архилоха. Без «очищения» (катарсиса), достигнутого таким внутренним отрешением от себя самого, не светится над произведением та потусторонняя улыбка хотя бы только предчувственной сверхличной гармонии, которая служит для людей знамением подлинности мусического сообщения. Неудивительно, что маска Архилоха говорит о себе, как все маски сцены, в иамбах. Архилох и по написании своих стихов остался в жизни тем же человеком, каким он был, но то, что он «возвел в перл создания», живет, освобожденное от него самого, вне времени, в невозмутимом царстве чистой формы; и это чудо Муз, над ним совершившееся, эллины умели святить.