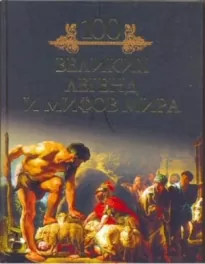Родное и вселенское

- Автор: Вячеслав Иванов
- Жанр: Философия
- Дата выхода: 1994
Читать книгу "Родное и вселенское"
Круг итальянского общения Иванова – по преимуществу западноевропейские интеллектуалы. В Павии его гостями в разное время были М. Бубер, Ш. Дю Бос, Г. Марсель, Б. Кроче, Дж. Папини, Ж. Маритен, Т. Уайлдер и др. В знак признания вклада Иванова в разработку проблем современного духа и грамматики культуры поэта приглашают сотрудничать в эстетском журнале «Корона» (Мюнхен; Цюрих), где печатались, к примеру, Т. Манн, Г. Гессе, П. Валери. Для публикации в «Короне» (и других журналах) Иванов переводит свои старые статьи («Ты Еси», «Античный ужас») на немецкий язык, параллельно перерабатывая их и снабжая новыми названиями. Новые же заказы (в частности, словарную статью «Символизм» для итальянской энциклопедии) писатель выполнял на языке той страны, где они предполагались к печати. В 1932 году в Тюбингене вышел авторизованный перевод книги «Достоевский. Трагедия – Миф – Мистика», составленной из переработанных в плане углубления эзотерической проблематики (и при некотором влиянии К. Г. Юнга) прежних работ об авторе «Братьев Карамазовых». Наибольший резонанс вызвала на Западе «Переписка из двух углов». В 1926 м ее публикует по-немецки М. Бубер, в 1930 м (по-французски) – Ф. Мориак и Ш. Дю Бос, в 1933-м (по-испански) – Х. Ортега-и-Гассет.
С 1936 года Иванов жил в Риме и до своей кончины, последовавшей 16 июля 1949 года, являлся профессором русского языка и литературы в Папском Восточном институте. Он не прекращал и поэтической работы. Событием стала в 1939 году парижская публикация мелопеи «Человек».
Поэт глубоко любил «вечный город», куда, по собственному выражению времен отъезда из России, «ехал умирать». Иванову посчастливилось поселиться в доме, который располагался над Форумом. Жизнь на «Тарпейской скале», возможно, напоминавшая поэту петербургскую «башню», вдохновила его на знаменитые строки:
Журчливый садик, и за ним
Твои нагие мощи, Рим!
В нем лавр, смоковница, и розы,
И в гроздиях тяжелых лозы.
В начале 1944 года (к этому моменту он уже жил близ терм Каракаллы: из-за предпринятой Муссолини реконструкции Капитолийского холма дом на «скале» был снесен) Иванов неожиданно для себя пережил пору лирического вдохновения. За короткое время он написал сто двадцать стихотворений, которые сложились в цикл «Римский дневник», вошедший в подготовленное им, но изданное посмертно итоговое собрание стихов «Свет вечерний» (Оксфорд, 1962). Пожалуй, не случайно, что под знаком этого лирического всплеска, сложившего вязь образов одновременно и прозрачных и музейных, встретились приметы былого («Густой, пахучий вешный клей / Московских смольных тополей») и настоящего («И лил нам в кубки гроздий сок червонный, / В дыханьи пиний смольных, круглосенных / И кипарисов дважды благовонный…»), ибо стареющий поэт ждал расставания с «веком железным» и сретенья мира иного с известным облегчением, – «виноград» творчества «для памятливых внуков» должен быть с благодарением пожат…
Несмотря на то, что в эмиграции Иванов пересмотрел свой прежний культурный словарь, его многолетняя работа над так и не завершенным русским эквивалентом второй части гетевского «Фауста» – прозаической «поэмой» «Повесть о Светомире-царевиче» – говорит о том, что поэт во многом сохранил верность своим старым идеям и продолжал верить в мистическое будущее мира, преображенного светом русской святости.
Насколько оправданно издание тома эссеистики, принадлежащей перу поэта, в философской по подбору имен серии «Мыслители XX века»? Отчасти ответ на этот вопрос уже дан. Сошлемся на авторитет А. Ф. Лосева: «Конечно, Блок и Брюсов дали такое, что Иванов не дал. Но зато Иванов дал такое, что не снилось ни Блоку, ни Брюсову… Снилось только философам-символистам…»[3] Лосев не прекраснодушен. Русские мыслители начала века считали «вольного каменщика» «башни» своим, хотя могли и не одобрять его апологию «мистического анархизма». В то же время возникшая, как уже было отмечено выше, в пучке смысла, уравнявшего между собой поэтическую и философскую рефлексию (что уже само по себе говорит о парадигме мысли XX века, имеющей сторонников в лице М. Хайдеггера, с одной стороны, и Т. С. Элиота, с другой), интеллектуальная проза Иванова противится жестким определениям, соткана из множества фрагментов, каждый из которых по отдельности не является собственно ивановским. Иное дело, что калибр ума Иванова, скрытый за «чешуей» его эссеистики, по-символистски сводит все эти достаточно разрозненные осколки воедино, а его поэтическая интуиция сообщает суггестируемому образу притягательность, которая возбуждает ответную работу мысли.
«Отражаясь, отражаю» – так, наверное, мог бы сказать о себе Иванов, сделав парафраз знаменитых строк своего однофамильца и также поэта (Г. Иванова):
Друг друга отражают зеркала,
Взаимно умножая отраженья…
Этим своим «учительским» свойством, этой возможностью со-творчества поэт несомненно дорожил. Но не настолько, чтобы связать его с каким-то одним увлечением: он постоянно искал новое, извлекая из практически всеядных интересов (эллинистические религии, средневековые ереси, М. Экхарт, Гете, Ницше. Бергсон, аббат Бремон, Т. Хеккер, церковнославянский язык, теософия и т. д.) и контактов ему одному ведомый эстетический корень. Причастность Иванова к коллективной работе серебряного века и разработке его философско-эстетических сюжетов (Иванов – С. Булгаков; Иванов – В. Эрн) еще ждет изучения… Так или иначе, но без атмосферы «симпозиона» и «диалога» Иванов как бы лишался почвы под ногами.
В свое время это было узнано Н. Бердяевым, распознавшем в Иванове «типичного александрийца… человека вторичного, а не первичного бытия, все воспринимающего в отражениях культуры… в филологических утонченностях и изощренностях»[4]. И все же александризм Иванова (на ум в связи с которым приходят имена Ж. Э. Ренана и А. Франса) – поправим Бердяева – шире, пускай и изощренного, но сосредоточенного на себе ироничного культурного нарциссизма. В системе координат русского символизма он, пожалуй, обладал редким объемом культурного виденья: свободно владел мертвыми (древнегреческим, латынью) и современными (немецким, французским, итальянским, чуть хуже английским) языками; большую часть жизни провел вне России и имел представление о цивилизации Запада не как турист с Бедекером в руках; его исчерпывающее знание античности нигде и никем не ставилось под сомнение.
Все эти дары Иванов стремился использовать в интересах общества. Подобно другим русским религиозным мыслителям первой трети века, он описал кризис поствозрожденческого индивидуализма. Торжество «цивилизации» над «культурой» способствовало явному преобладанию «критического» начала в творчестве над «органическим» и забвению духовного синтеза, обретенного художниками средних веков. В послекантовскую эпоху утончение индивидуалистической восприимчивости привело в системе координат романтического искусства (которое писатель распространяет на весь XIX в.) к возникновению новых разновидностей идеализма, свидетельствующих об отпадении культуры от ее религиозно-мистериального корня. Их суть – в иллюзионизме, в отрицании онтологической природы творческого усилия.
Необходимость преодоления кризиса индивидуализма Иванов видел на путях религиозно понимаемой соборности. Вклад его в расширение общекультурного понимания этой проблемы немал. Во-первых, он выступил одним из главных «посредников» в установлении соответствия между символистской поэзией и религиозно ориентированной философией. Во-вторых, во многом благодаря Иванову Ницше в России был воспринят в первую очередь как религиозный мыслитель и даже соработник «русской идеи». Наконец, именно под воздействием Иванова античность в ее неоромантической интерпретации была включена в сферу русской мысли.
Все эти направления проповеди Иванова подразумевали чаемую им идею синтеза, поскольку критика оставалась для него методом по преимуществу второстепенным и предназначалась для выполнения положительной задачи. Настойчивость, с какой стремится решить ее Иванов, вербуя себе союзников в культурах прошлого и настоящего, выдает то, что в своем глубинном монотематизме он принадлежит к числу тех квинтэссенционных представителей романтико-символистской культуры, которые посвятили себя поиску «алхимического камня» творчества и рискованному возведению «башни культуры» – реализации утопического проекта преображения мира культурой, принявшей на себя функцию культа.
Перед современным художником, считает Иванов, стоит задача принять участие в мистическом делании. Под влиянием Р. Вагнера, а также пытаясь примирить Вл. Соловьева и этически прочувствованного Ницше, Иванов склонен видеть в человеке Человека и искать раскрытия соборных (или «сверхчеловеческих») свойств индивидуализма через перестройку психологии. Никакой акт не должен знать разделения «неба» и «земли», ибо искусство втягивает своих адептов в «земное, реальное» воплощение религиозной идеи.
Иванов отличает «идеалистический» (феноменологический) символизм от «реалистического». Первый в лице, к примеру, французской поэзии Ш. Бодлера, П. Верлена и С. Малларме занят психологическим экспериментом, «игрой»: поиском прежде никем не испытанного душевного состояния и дальнейшим воплощением его ассоциативного соответствия («сна», «химеры»), или символа, который в виде нервического сигнала устанавливал бы монологическое элитарное общение между автором и читателем, вызывая магией слова в воспринимающем сознании аналогичное иллюзорное состояние. Сила его «искусственности» пропорциональна остроте осознания открывшегося еще Бодлеру «великого Ничто».
Реалистический же символизм актуализирует таинство насущного бытия, исходит из завещанного Гете требования об объективно-познавательном характере символа и веры художника в бытие творимого и возвышает феномен до ноумена, «вещь» до «мифа», двигаясь «a realibus ad realiora» – от видимой реальности предмета к его внутренней и более сокровенной реальности. Приобщение к первореальности чревато опасностью. Поэт способен выдать открытое им за личную мечту, но его должен спасти отказ от романтического монолога ради соборности «хора» и «хорового действа» – художническая жертва «я» во имя «ты». Она даруется любовью, полным растворением субъекта в «великом субъекте» и ответном восстановлении «я» в «ты» уже в качестве абсолютной реальности.
Центральным для философии Иванова является образ Диониса. Дополняя наблюдение Ницше о параллелях между христианством и античными мистериями учением Соловьева о Богочеловечестве, Иванов создает религиозный миф, ставя на место соловьевской Софии и ницшевского «танца» образ Диониса как религиозной метафоры свободы творчества. Это, в частности, дает ему возможность видеть в эллинизме «второй» Ветхий Завет, а в боге вина – предвестника Христа.
Дионисизм, по Иванову, – один из способов преодоления кризиса индивидуализма, рождение личного опыта, сверхличного по значению, но главное – некое священное безумие, «энергия» и даже «метод» внутреннего знания. Он предшествует Слову и проходит, о чем говорится в «Переписке из двух углов» (итоговом философском сочинении Иванова), «через всякую истинную религиозную жизнь… независимо от форм [ее] кристаллизации». Энтелехия дионисизма вертикальна, жертвенна и эротична, свидетельствует о восхождении человека-творца к Богу в ответ на Его нисхождение к человеку. Представление о единстве культуры как мистической церкви дает Иванову основания оправдать все аспекты истины, которые познавались человечеством в процессе «Божественного воспитания». Дионис поэтому выступает и манифестацией «экумены Духа», и первопамятью культуры, в чьих недрах не остается не учтенным ни один «творческий порыв». В подлинном гении есть, в чем уверен Иванов, нечто от святого, который приобщился к соборному союзу «отшедших в жизни живущих»: Данте не мог бы появиться без св. Франциска Ассизского…