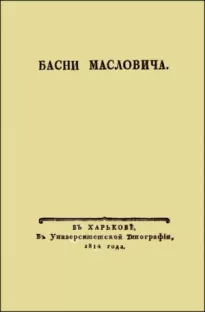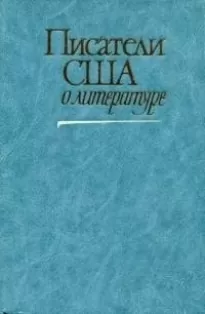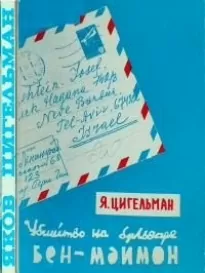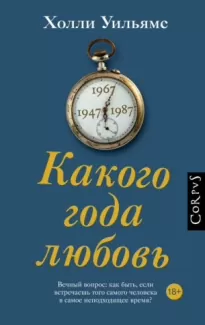Собрание сочинений. Том 3. Жак. Мопра. Орас

- Автор: Жорж Санд
- Жанр: Классическая проза
- Дата выхода: 1971
Читать книгу "Собрание сочинений. Том 3. Жак. Мопра. Орас"
ГЛАВА XX
В те времена самой значительной и лучше других организованной политической ассоциацией было «Общество друзей народа».[125] Многие из его вождей сыграли уже известную роль в движении карбонариев;[126] вместе с другими, более молодыми, они продолжали играть еще более видную роль начиная с 1830 года. Среди людей, появившихся и выросших за это десятилетие и вошедших в историю, «Общество друзей народа» насчитывало таких, как Трела, Гинар, Распайль и другие; но наибольшее влияние на молодых студентов, подобных Ларавиньеру, и молодых республиканцев из народа, подобных Полю Арсену, оказывал Годфруа Кавеньяк.[127] Пожалуй, одному ему не было свойственно ребяческое самодовольство, заметное у большинства выдающихся людей нашего времени, для которых притворство — вторая натура. Высокий рост, благородное лицо, нечто рыцарственное во всем облике, искренние, яркие речи, живость, мужество и самоотверженность — все это воспламенило бы голову воинственного Жана и зажгло бы сердце отважного Арсена, даже если бы Годфруа и не придерживался тех законченных и последовательных социальных идей — я сказал бы, идей философских, — которые сформировались к тому времени в народных обществах. Лишь один этот вождь «Друзей народа» проповедовал в клубах то, что можно назвать учением; учение это во многих отношениях не удовлетворяло еще внутренних побуждений Арсена и больших требований, предъявляемых им к будущему, но, во всяком случае, оно означало огромный и неоспоримый шаг вперед по сравнению с либерализмом эпохи Реставрации. По мнению Арсена и по всегда суровому и недоверчивому суждению народа, остальные республиканцы были слишком заняты свержением власти и недостаточно заняты созиданием основ республики; когда же они пытались это делать, то в результате получались скорее надуманные регламенты и дисциплина, чем нравственные законы и новое общество.
Кавеньяк готовил прекрасную оппозицию, деятельность которой так бурно и широко развернулась в следующем году, в противовес вялой и лживой оппозиции палаты, и одновременно углублял свое учение, развивая идеи и устанавливая принципы. Он думал об освобождении народа, о бесплатном народном образовании, о праве голоса для всех граждан, о прогрессивном видоизменении права собственности, не включая притом, подобно некоторым нынешним республиканцам, эти ясные и обширные принципы в лицемерный вопрос организации труда и избирательной реформы, — понятия весьма гибкие, смысл которых можно сужать и расширять по желанию. В 1832 году никто не боялся, как сейчас, прослыть коммунистом; это стало пугалом для людей любых убеждений лишь в наши дни. Суд оправдал Кавеньяка после того, как он сказал с замечательной смелостью: «Мы не оспариваем права собственности. Мы только ставим выше его законную волю общества руководить осуществлением права собственности во имя общего блага». В этой речи, самой законченной и возвышенной из всех произнесенных на политических процессах того времени,[128] Кавеньяк сказал: «Мы оспариваем у него (у вашего официального общества) монополию на политические права; но не затем, чтобы требовать ее лишь для талантливых людей. По нашему мнению, талантлив тот, кто полезен. Любая деятельность обеспечивает человеку его права».
Арсен присутствовал на этом процессе; он слушал со сдержанным волнением. В то время как большинство слушателей, подчиняясь магнетизму страстной речи и всего облика оратора, всегда столь властно действующему на массы, разражалось бурными аплодисментами, он хранил глубокое молчание, хотя и был потрясен сильнее всех, и не слушал больше в этот день ни одного выступления[129].[130] Он всецело погрузился в мысли, пробужденные в нем Годфруа, и ушел, охваченный идеей, которую изложил мне в следующих словах:
«Религия, как мы ее понимаем, есть священное право человечества. Речь идет теперь уже не о том, чтобы запугивать преступника страшной карой после смерти или обещать несчастному утешение по ту сторону могилы. В этом мире нужно установить высокую нравственность и общее благополучие — то есть равенство. Нужно, чтобы звание человека давало всем, кто его носит, священное уважение к их общим правам, почтительное сочувствие к их нуждам. Наша религия — это такая религия, которая превратит ужасные тюрьмы в исправительные приюты и во имя неприкосновенности человеческой личности отменит смертную казнь… Мы не принимаем веры, которая все переносит на небеса, которая равенство перед богом сводит к равенству после смерти, признанному не только христианством, но и язычеством…»
— Теофиль, — воскликнул Арсен, пожимая мне руку, — вот великие слова, вот новая мысль — по крайней мере, для меня. Я столько думаю над этим, что все мое прошлое, другими словами, все, во что я верил еще вчера, рушится у меня на глазах.
— Не думайте, что эта мысль принадлежит только услышанному вами оратору, — ответил я. — Эта мысль принадлежит веку, и не раз уже излагали ее в самых различных формах. Можно даже сказать, что идея эта господствует в наших революциях вот уже сто лет, а в истории человечества — с тех пор как оно существует, ибо в ней человечество инстинктивно открыло свои права, выразив их с большей силой, чем в религиозной идее аскетизма и отречения. Но когда права человека, рассматриваемые с религиозной точки зрения, провозглашаются революционером, — это явление новое и значительное. Давно уже ваши республиканцы забывают, что их теории должны иметь божественную санкцию. Я как легитимист… — добавил я улыбаясь.
— Не говорите так, — горячо возразил Поль Арсен, — вы не легитимист в обычном смысле этого слова; вы понимаете, что законность правления определяется волей народа.
— Правильно, Арсен, я глубоко это чувствую, и хотя мой отец по происхождению был связан с людьми прошлого, а совесть не позволяла ему порывать эту связь, он на старости лет сумел подняться до понимания общественных отношений будущего и уважения к ним. Разве он был одинок среди умов того поколения? Разве Шатобриан сотни раз не говорил себе, что бог выше королей, — в том же смысле, как Годфруа Кавеньяк провозглашал сегодня превосходство права общества над правом богачей?
— Тем лучше, — сказал Арсен. — Значит, верно, что мы имеем право на счастье в этой жизни, что не грех стремиться к нему и что сам бог вменяет нам это в обязанность? Такая мысль никогда не приходила мне в голову. Я колебался между убеждениями революционера, делавшими меня почти атеистом, и пережитками детского благочестия, доводившими мою сострадательность до малодушия. Ах! Если бы вы знали, как бессердечно жесток был я в течение трех дней моего исступления! Я убивал людей, я говорил им: «Умри, ты, который заставлял умирать! Будь убит, ты, который убиваешь!» Это казалось мне осуществлением какого-то дикарского правосудия; но я чувствовал, что мною движет сверхъестественная сила. Затем, когда я успокоился, когда преклонил колена у июльских могил, я вспомнил о боге, о том боге смирения и покорности, которому меня учили молиться, и мной овладели сомнения. Я спрашивал себя, не будет ли мой брат проклят за то, что поднял руку против тирании? И не буду ли я сам проклят за то, что отомстил за своего брата и всех своих братьев из народа? Тогда я предпочел не верить ни во что, ибо не мог понять, почему во имя распятого Иисуса я должен позволить его служителям распять меня. Вот до чего дошли мы, дети невежества: мы либо атеисты, либо суеверны, а нередко и то и другое вместе. О чем же думают наши учителя, республиканские вожди, почему не говорят они о самом существе нашего бытия, о движущей силе всех наших действий? Неужели они считают нас просто животными, раз обещают нам лишь удовлетворение материальных потребностей? Разве они думают, что у нас нет потребностей более возвышенных — как потребность в религии, например, — или считают это только своей привилегией? Или, может быть, как раз у них и нет таких потребностей? Может быть, они люди еще более грубые и неверующие, чем мы? Так вот, — добавил он. — Годфруа Кавеньяк будет моим жрецом, моим пророком; я пойду к нему и спрошу, что следует думать обо всем этом.
— Он наговорит вам только множество красивых слов, дорогой Арсен, — ответил я. — Еще раз, не думайте, что это направление является единственным очагом новых идей. Усовершенствуйте свой ум для более широкого понимания духа нашего времени. Не доверяйтесь безраздельно тому или иному человеку, как если бы он был воплощением истины, ибо люди изменчивы. Порой они отступают, думая, что стремятся к благородной цели. Есть и такие, что вместе с молодостью теряют свой благородный пыл и неизвестно почему развращаются! Но займитесь серьезно теми самыми вопросами, решения которых вы ищете. Просвещайтесь, черпая из самых различных источников. Наблюдайте, читайте, сравнивайте и размышляйте. Ваша совесть поможет вам обнаружить логическую связь между многими противоречивыми на первый взгляд мнениями. Вы увидите, что честные люди различаются между собой не столько существом идей, сколько словами, их выражающими, что иногда лишь ревнивое самолюбие является для них препятствием к единству верований, но что между этими людьми и власть имущими лежит огромная пропасть, отделяющая нужду от роскоши, самоотверженность от эгоизма, право от силы.
— Да, нужно учиться, — сказал Арсен. — Увы! Если бы у меня было время! Но, просидев целый день за подсчетами, к вечеру я уже не в состоянии читать; глаза невольно слипаются, или, наоборот, я прихожу в возбуждение и, не улавливая смысла прочитанного, начинаю грезить наяву и перелистываю воображаемые страницы своих собственных вымыслов. Давно уже я хочу узнать, что такое фурьеризм. Сегодня Кавеньяк говорил о нем, а также об «Энциклопедическом обозрении»[131] и сенсимонистах. О них он сказал, что, несмотря на все ошибки, они самоотверженно отстаивали полезные идеи и развивали принцип ассоциаций.[132] Эжени, я пойду послушаю их проповеди.
Здесь Эжени была в своей сфере; она всегда горячо ратовала за восстановление женщины в ее правах. Она принялась поучать своего друга Мазаччо, чего до сих пор никогда не делала, ибо принадлежала к тем осторожным и чутким натурам, которые решаются употреблять свое влияние, лишь будучи уверенными в успехе. Эжени умела ждать так же, как умела выбирать. Вряд ли она больше десяти раз говорила мне о своих сенсимонистских верованиях, но всегда ее слова производили на меня глубокое впечатление. Занимаясь изучением этой философии, я знал все ее сильные и слабые стороны, может быть, лучше самой Эжени. Однако меня всегда восхищали чистота намерений, проницательность и такт, с какими она умела без лишних слов устранять из споров, в которых учение искажалось второстепенными приверженцами, все, что возмущало ее врожденное благородство и скромность; и часто она a priori[133] извлекала из туманных разглагольствований учителей именно то, что отвечало ее врожденной гордости, прямоте и любви к справедливости. Иногда я говорил себе, что Эжени могла бы явиться той сильной и умной женщиной, которую апостолы[134] призывали сформулировать права и обязанности женщин. Но, помимо того, что ее сдержанность и скромность помешали бы ей подняться на подмостки, где слишком часто вместо человеческой драмы разыгрывалась социальная комедия, в среде самих сенсимонистов, при неизбежной в те времена неустойчивости их принципов, одни сочли бы ее слишком нетерпимой, другие — слишком независимой. Час еще не пробил. Сенсимонизм завершал новую фазу своего развития, после которой должна была образоваться пустота. Эжени чувствовала это и предвидела, что понадобится, может быть, десять, двадцать лет передышки, прежде чем сенсимонизм возобновит свое движение вперед.