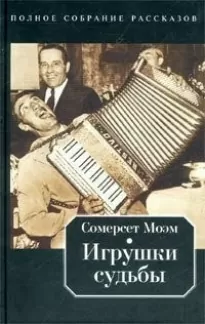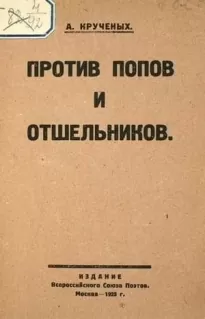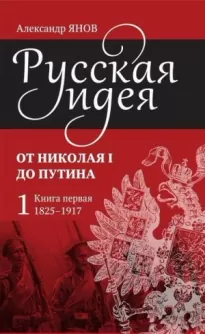Пушкин и тайны русской культуры

- Автор: Сергей Куняев
- Жанр: Литературоведение / Культурология
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Пушкин и тайны русской культуры"
Но решающие признаки того, что баллада Гете задела, заинтересовала его и вынудила дать свой ответ – в содержании «Олега». Это не сразу бросается в глаза и видно лишь в сопоставлении, но пушкинская баллада тоже говорит о надвигающейся предуказанной смерти, которую человек стремится отвратить, но не может, и возвещает о ней тоже некоторого рода лесной царь: «из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник»… Атмосфера же, смысл происходящего иные, это другой образ мира.
Неотвратимость смерти соблюдена, она торжествует. Но почему-то вдруг разрастается и крепнет убеждение, что не в ней дело и определить собою жизнь она не может. Не только ужаса, но и признания какой-либо окончательности за смертью в произведении Пушкина нет.
За несколько секунд до гибели Олег слышит ее приближение; смерть пробегает тенью в его голове, и – замечательная художественная подробность – он слышит ее, хотя не понимает, что она свершится тотчас же:
…Спи, друг одинокий!
Твой старый хозяин тебя пережил:
На тризне, уже недалекой,
Не ты под секирой ковылъ обагришь
И жаркою кровью мой прах напоишь!
Однако тут же, неотделимо от других подробностей, становится понятным, что он видит ее как картину кипящей дальше жизни – жертвенно погибшего на тризне коня. И то, что он видит в уме, немедленно сбывается:
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.
Ничто из опорных сил начала – той картины, которой открывается «Песнь», – не прервано и не уничтожено. Это та самая дружина, с которой пировал Олег и в тот день, когда выползла из черепа «гробовая змея», и те же непобедимые, в том же положении бойцы. Там они сидели «при звоне веселом стакана», здесь – хотя и на «плачевной» тризне – «ковши круговые, запенясь, шипят» и «минувшие дни и битвы», которые укрепляли их дух, свободно перетекают в помянутые вначале «грядущие годы», которые «таятся во мгле». Мгла же явно раздвинута появлением «на холме» Игоря и Ольги.
Едва покинув Лицей, Пушкин написал философствующему приятелю, сотруднику Министерства иностранных дел, куда он и сам был зачислен:
Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем.
Право, нам таким бездельем
Заниматься недосуг.
Тот, кто хотел бы видеть здесь следы юношеской бравады, мог бы припомнить, что Пушкин сказал, умирая, на предложение не cдерживать стоны, которые могли сокрушить его жену: «нет… смешно же, чтоб этот вздор меня пересилил, не хочу». «Вздор» и «безделье» – понятия одного порядка, и это было стойким убеждением, пронесенным Пушкиным через всю жизнь. Наиболее известным его воплощением в поэзии стало:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
(1835)
В «Олеге» он высказал это миропонимание впервые в отношении к иному, открывшемуся в иностранной поэзии образцу, его не называя, действуя, как обычно, художественно, без противопоставлений и деклараций. Конечно, Пушкин воспринимал тогда Гете через Жуковского. Лишь через несколько лет «любомудры» побудили его более объемно взглянуть, по его словам, на «нашего Германского Патриарха». Прекраснодушие и чувствительность Жуковского несомненно отгораживали от него действительного Гете. Если бы Пушкин знал, например, проницательные суждения Гете о Жуковском, что тому бы следовало «более обращаться к объекту», близкие его cобственной нарождавшейся «поэзии действительности», он, может быть, несколько иначе отнесся бы к холодной (или намеренно охлажденной) невозмутимости гетевского взгляда. В этом духе он поддержал впоследствии катенинский перевод баллады Биргера «Ленора», менее поэтичный, чем у Жуковского, зато более трезвый. Да и с первых шгов в поэзии он этих склонностей учителя не разделял. Когда на Жуковского напали «староверы» и комедия А.Шаховского «Урок кокетам, или Липецкие воды» (1815) осмеяла его в виде поэта Фиалкина, воспевающего «звон костей в гробах», Пушкин участвовал в потешной войне «Арзамаса» и «Беседы» на стороне «Арзамаса» эпиграммами. Однако «свой звонкий голос», который подавал, по словам современника, «Сверчок» из стен Лицея, уже тогда не принадлежал ни тем, ни другим. В нем слышались иные интонации, в том числе и по отношению к воспринятой через учителей поэтической Германии. Ко времени написания «Олега» его миропонимание окрепло настолько, что он счел возможным дать собственный образ, где кости не только «не звенят в гробах», но, напротив, каким-то странным образом участвуют в обновлении жизни; даже кости коня:
…на холме, у брега Днепра,
Лежат благородные кости.
Их моют дожди, засыпает их пыль,
И ветер волнует над ними ковыль.
Внутреннее, слегка насмешливое неприятие представлений, за спиной которых угадывался «Король эрлов», а значит, и его автор, образовало в Пушкине тип отношений, высказываемых не явно, но определенно. Показательными стали его наброски драмы о Фаусте, более важные для нашей темы, чем совершенно самостоятельная «Сцена из Фауста» того же года (1825). Смерть здесь перекидывается в картишки, ворчит, что не спросили ее разрешения перед посещением ада: должен быть порядок («обычай требовал», как она говорит). Но в этом порядке ее роль ничуть не устрашающая; она выполняет свою работу в свое время и на своем месте, как другие «сотрудники»; их совместные забавы она объясняет так: «Ведь мы играем не из денег, а только б вечность проводить!» «Проводить» при этом означает, очевидно, не «проводить в дорогу», но озабоченность незнанием, как им «провести» эту вечность, ее «скоротать». Некая громадная жизнь идет, оказывается, и сквозь это грозное всеобъемлющее начало. Она знает в себе нечто другое, более важное: бессмертие.
Было бы напрасным делом формулировать существо пушкинских воззрений в иных словах, чем это сделал он сам. Не более плодотворно и подводить его под какие-либо категории философии. Оно несравненно глубже этих категорий, древнее и одновременно свежее их. Пушкинский образ поднимает в мысль нераздельную связь концов и начал. Можно найти в нем близость народному: «Будет жизнь – поживать будем, а смерть придет – помирать будем»; можно соотнести с евангельским: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Лк. 9, 60) или: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20, 38). Но как бы то ни было, Пушкин сообщает поднятому им древнему сознанию особенный тип и стиль, который, в согласии с его же замечанием о национальном характере Крылова («лукавая насмешливость ума и живописный способ выражаться», 1825), звучит как русский ответ на поставленные немецким романтизмом вечные вопросы.
Было бы также нетрудно проследить, как передается это пушкинское мироощущение русским писателям. Оно, конечно, не всегда наделено пушкинским присутствием шутки, но простота и неокончательный характер смерти дают о себе знать постоянно. Толстой, не уходивший от этой темы ни в одном почти своем произведении, в конце концов завершил ее несколькими простыми словами, с которыми обращается к солдатам в госпитале Петруха Авдеев («Хаджи-Мурат»): «Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирать буду». В XX веке она проявилась у ведущих писателей не менее сильно и естественно – в новом тяжелом опыте времени, – вроде того, как ощущает себя перед расстрелом шолоховский Бунчук: «Он готовился к смерти как к невеселому отдыху». Или как у Булгакова среди, казалось бы, гнетущих картин вдруг пролетит ласточка и пронесется мысль «о каком-то долженствующем непременно быть – и с кем?! – бессмертии»; мысль эта заставляет прокуратора «похолодеть на солнцепеке»; там, где Левий Матвей начинает записывать на пергаменте нечто вовсе невразумительное: «Смерти нет»… и т. п.
Стоит, вероятно, заметить, что «лукавая насмешливость» проявляется у русских писателей именно в отношении к немецкой серьезности; таков классический «Юнкер Шмидт» Козьмы Пруткова:
Вянет лист. Проходит лето.
Иней серебрится…
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.
Погоди, безумный, снова
Зелень оживится!
Юнкер Шмидт! Честное слово,
Лето возвратится!
Этот юнкер был одним из русских ответов (как и пушкинский Ленский) на слишком влиятельного гетевского Вертера. Н.Н.Страхов, большой поклонник немецкого идеализма, как вспоминал сын Толстого Илья Львович, при посещениях Ясной Поляны «…умел прекрасно декламировать одно шуточное стихотворение Козьмы Пруткова «Вянет лист», и часто мы, дети, упрашивали его и надоедали до тех пор, пока он не расхохочется и не прочтет нам его с начала до конца.
– Юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится, – кончал он с ударением и непременно на последнем слове, улыбался и говорил ха-ха-ха…»
Все это нельзя, разумеется, понимать так, будто немцам изначально и через Гете свойствен угрюмый взгляд на жизнь, а русским через Пушкина – забубённое веселье. Речь идет о веяниях (по Ап. Григорьеву), влияниях, преобладаниях, которые на достаточно долгий срок могут выходить вперед в национальном сознании и вовсе не исчерпывать его. У Гете нам известна его радость от чувства причастности к мирозданию («Wie herrlich leuchtet mir die Natur…» – «Как великолепно сияет навстречу мне природа»), и безоглядные влечения, которыми прославлен Пушкин («О Madchen, mein Madchen, wie lieb ich dich…» – «О, дева моя, дева, как люблю я тебя»); и тот же помянутый Шварцвальд известен не только глухими черными елями и родиной ведьм, но и неудержимым «Horch, was Kommt von draussen rein… holari-holaho!» («Слышишь, что рвется к нам снаружи… Холари-Холахо!»). Эту песню, кстати, напрасно (хотя и объяснимо) связывали в наших фильмах исключительно с немецкими солдатами Второй мировой войны. Дело в другом; в перемещениях и поворотах больших мыслительных циклов, в которых находят свое место национальные пристрастия, стремящиеся, однако, к цельности и полноте. В европейском сознании соотношение двух наиболее представительных национальных баллад – «Короля эрлов» и «Олега» – составляет в этом смысле важный эпизод.
Обращение к «вещему Олегу» было сопряжено у Пушкина, возможно, и с чем-то личным. Ему тоже было предсказано, что он умрет от белого человека или белой лошади, и – в чем снова непонятно сказалось соучастие или посредство Германии – гадалкой с немецкой фамилией Кирхгоф (в переводе «Церковный двор»). Церковь предостерегала от общения с гадателями и колдунами, поскольку, как можно предполагать, человек как бы выдергивает в этом случае единственную нить судьбы из гигантского разнообразного жизненного «ковра» с непредсказуемыми возможностями и тем самым заранее подвешивает себя на ней – уже неотвратимо. Картинным примером служила поколениям прихожан история библейского Саула. На юного Пушкина, которого привели к гадалке светские приятели, предсказание произвело особое впечатление, как рассказывали, потому, что некоторые детали других ее пророчеств стали сбываться с ним довольно скоро. И он, если вообще верить истории с предсказанием, действительно принял смерть от человека с лошадиными повадками, белокурого эльзасца, который смотрел на окружавших его аборигенов, как некий гуингм, и безусловно не ведал, «на что он руку поднимал». Правда, этот личный повод стихотворения, если и был, совершенно исчез и растворился в широком, поднятом балладой содержании.