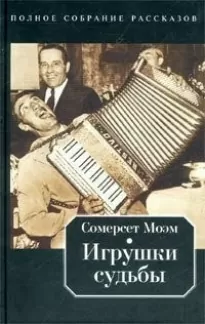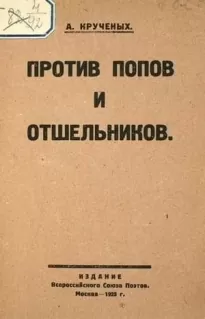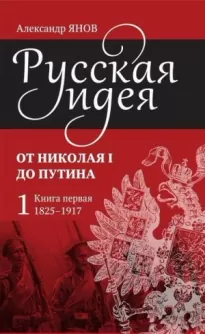Пушкин и тайны русской культуры

- Автор: Сергей Куняев
- Жанр: Литературоведение / Культурология
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Пушкин и тайны русской культуры"
Ответы Антона Чехова
На своем историческом месте Чехов дает идеалу русской литературы новое движение, или, лучше сказать, учитывая его своеобразие, – наполнение. Он является как уравновешивающая сила по отношению к Достоевскому, и не только по отношению к нему; он выправляет весь крен литературы, который был сделан ею в сторону идей, включая Герцена, Некрасова, Щедрина и др., – необходимый, но и угрожающий растворить литературу в вихрях времени. В нем литературе возвращается ее первозданная устойчивость, централизующая сила; восстанавливается и развивается суверенный для литературы способ мысли, жизненный образ; укрепляется объективность; вступает в свои неотменимые права контроль жизни (во всей ее полноте и через художественный образ) над мечтаниями, отрицаниями, фантазиями, порывами и проектами, как бы прекрасны они ни были. Прекраснее их у Чехова необъятная правда реальности.
Однако без общего для русской литературы идеала он так же немыслим и непонятен, как и другие русские классики. Не ощущать этого у Чехова – то же самое, что не видеть за карикатурным сгущением характеров у Гоголя того света, которым они выхвачены из безвестной тьмы, или за разнообразием идей у Достоевского – их растворяющего положительного начала.
Антон Чехов
Между тем реализм Чехова располагает к подобному самообману, как ничто другое. Это цена, которую ему приходится платить за объективность на первых порах общения с читателем. Благодаря полному пониманию, ощущаемому читателем в отношении себя, возникает иллюзия, что писатель целиком на его стороне, глядит на суровый мир его глазами. Тогда – умиление, жалость к себе, до застилания глаз, до полной невозможности понять действительное отношение автора и его вопрос, обращенный к нам из требований реальности: «а что же вы?..». За справедливо угаданным сочувствием не сразу обнаруживается, какой строгий взгляд сравнивает здесь человека с тем, чем он должен и безусловно мог бы быть.
Классическим примером может служить Волжский (А. С. Глинка) с его отзывом на появление «Вишневого сада»:
«Сердце тоскливо, болезненно сжимается и ноет, на глаза навертываются ненужные, бессильные слезы, слабые руки беспомощно опускаются, печальные, задумчивые взоры мечтательно смотрят в неясную даль, слышатся безмолвные вздохи, тихий стон и тоска, тоска огромная, русская, больно сосущая сердце… Таким настроением проникнута новая пьеса Чехова, такова атмосфера «Вишневого сада»».
Но это было настроение сидевших в зале «сестер Прозоровых», а не чеховской пьесы. Они ошибались, и Чехову приходилось буквально отбиваться от захлестывающей любви к тому, к чему он никакого расположения не выказывал. То есть, его главная мысль, конечно, пробиралась и к читателю, и к зрителю и делала свое дело; но на поверхности ее перекрывали оформители настроений, с которыми совладать ему явно не удавалось. Состояние писателя, восторженно приветствуемого за то, что он пытался пересилить, хорошо передает очевидец: «Беседа его с окружающими шла по-разному. То это были самые обычные, бытовые разговоры – то они переходили – это чаще всего – на предстоящую через несколько дней премьеру «Вишневого сада» – и тут я увидел Чехова в явной тревоге, даже создавалось временами впечатление, что он не особенно верит в успех пьесы, даже как-то сомневается в нем. Какие-то незнакомые мне лица – по-видимому, театральные критики – по очереди убеждали его, что пьесу ожидает безусловный успех, что это исключительное произведение, – он отшучивался, меняя тему разговора, но тревога явно жила в нем до самого спектакля. В день первого публичного спектакля я не был «занят» – я уже был готов к отъезду – и пришел лишь посмотреть, как пройдет спектакль.
В Художественном театре, надо сказать, жесткая дисциплина, и во время спектакля доступ на сцену не участвующим абсолютно закрыт. Но тем не менее Чехов все действия непрерывно, заложив руки за спину, ходил туда и сюда за самым павильоном: только полотно декорации отделяло его от зрителей. Ходил он бесшумно – на ногах у него были мягкие туфли с подошвами из лосиной кожи. В антракте он усаживался тут же на спуске в арт. фойе; его окружали артисты, начинали шумные беседы, то и дело появлялся В. И. Немирович-Данченко и Станиславский; но как только начиналось действие – он немедленно возобновлял свое хождение. И вот пьеса кончилась, начались бесчисленные вызовы, публика не расходилась. «Автора, автора», нескончаемо в один голос кричали все».
Автора ли действительно вызывали они или кого-то другого, вот что тревожило его, и, как тут же выяснилось, с полным основанием. Известно, как на прошедшем во время премьеры чествовании в ответ на обращение «дорогой, многоуважаемый…» Чехов насмешливо покосился в сторону Станиславского, только что произнесшего в роли Гаева те же слова, но с добавлением «шкаф». Зачитывал обращение представитель газеты «Русские ведомости», насколько это можно понять из сообщения Н. Эфроса, – того самого, который так ожесточил обычно сдержанного писателя своим разглашением – пересказом «Вишневого сада» («У меня такое чувство, будто я растил маленькую дочь, а Эфрос взял и растлил ее»). Раздражение Чехова, вызывающее иногда недоумение, может быть, станет нам понятнее, если мы обратим внимание, что написал об этом чествовании 1904 года Н. Эфрос в своей книге о «Вишневом саде», вышедшей в 1919 году, то есть после, казалось бы, отрезвляющего опыта истории.
«…Вторым приветствовали «Русские ведомости», говорившие в своем адресе, «насколько русское общество Чехова ценит и любит, им дорожит и ему симпатизирует». Старейшая прогрессивная газета свидетельствовала, что «видит в его художественно-творческой деятельности неизменное служение высоким идеалам красоты и правды, глубоко проникновенное понимание удручающей русскую жизнь тоски»».
Это «неизменное служение высоким идеалам красоты и правды» было буквальным повторением того, с чем обращался к шкафу Гаев; «художественно-творческая деятельность» – точным воспроизведением стиля, кото рым тридцать лет душил литературу профессор Серебряков; а «удручающая русскую жизнь тоска» – навязываемым клише из того же набора, только применявшегося в «социальной психологии». Кадетская любовь к фразе, которую преследовал В. И. Ленин и которая была, конечно, не просто приемом, но целым мироощущением, где упоенное представление о своей принадлежности к «правде, свободе и красоте» прочно заменяло и красоту, и свободу и правду, – иначе говоря, одна из самых серьезных общественных опасностей, которую Чехов не уставал отмечать в разных характерах и на всех уровнях, – выдавалась за «чеховское» отношение к жизни. «Брат человеческий», – назвал свою статью о Чехове Д. Мережковский, не желая видеть, что так обращался к людям не Чехов, а «мистический бродяга» из второго акта «Вишневого сада». «Душой, – утверждал В. Дорошевич, – Антон Павлович Чехов был бы кадетом».
Позднее в создании атмосферы, подменяющей Чехова, стали винить Художественный театр. Он будто бы распространил слезливо-умиленное отношение к беспомощному интеллигенту, он-де не понимал «фарсовой» природы чеховских пьес и т. д. Вряд ли эти обвинения можно считать основательными; скорее последующие «фарсовые» интерпретации лишний раз показали, насколько полно понимал МХАТ 1898–1948 гг. чеховскую мысль. Лучше, наверное, объясняла подобные отклонения «эстетика восприятия», развивавшаяся в Констанце школой X. Р. Яусса, или, точнее, «историко-функциональное» изучение литературы, заявившее о себе у нас в конце XX века. Первые исследования в этом направлении, касающиеся А. П. Чехова, были проведены. Их выводы говорят о главном: чеховский художественный мир оказался намного глубже и сильнее до сих пор сменявших друг друга его восприятий – благодаря масштабу заложенной в нем задачи.
Эта задача и составляла, как вырисовывается со временем, его генеральную идею, – в которой многие ему отказывали. Идея была, хотя Чехов, очевидно, не желал ее формулировать, зная, как беднеет мысль, вгоняемая в определения; и если мы вынуждены это делать, то опять-таки обязательно понимая, насколько такое формулирование бледно в сравнении с художественной реальностью, которая за ним стоит и которая единственно способна дать подобным задачам убедительность.
Ничего нового на поверхности не было. Более того, как будто в согласии с критикой – бессмыслие, бескрылость и застой. На деле: громадное движение изнутри жизни в сторону «положительно-прекрасного человека»; практическое, без заявлений (и даже отвергая заявления) преобразование каждой встречной мелочи сообразно идеалу; пробуждение и поддержка личных возможностей человека в движении к высоте, находимых в любом таинственно-особом варианте, который может быть «никому не нужен» и выглядит со стороны смешной чепухой; устранение взаимной слепоты, разрушение перегородок; всеобъемлющая правда; контроль, не допускающий никаких уклонений от этого общего движения, и исключительно тонкое, как никогда раньше, распознание лжи.
Персонажи Достоевского уповали на красоту, которая «спасет мир». Сам писатель искал ее, метался, не останавливаясь перед эффектами мелодрамы или стилизованного жития, лишь бы поймать ее ускользающий образ. Срывы и падения сопровождали эти гигантские всплески фантазии в сторону далекой цели. Чехов, никуда не отходя, открыл красоту в самой заурядной жизни. Он вынес ее на всеобщее обозрение – засоренной, запущенной, самой себя не сознающей, заблудшей даже, – но совершенно реальной. Стало видно вдруг, как она растет из всех щелей и углов, какой бы искалеченный образ ни принимала, куда бы ее ни искривляли по дороге.
В высшей степени показательным явилось понимание Толстым «душечки» как положительного лица. Она, конечно, «положительной» (в виде какого-то образца) никогда не была; но она была действительно наполнена чем-то неотразимо симпатичным, в основе глубоко правильным и лишь искаженным на поверхности ходом обстоятельств, несознаваемым уровнем, недомыслием, беспечностью и т. п. Это Толстой, хотя и клонивший в свою сторону, угадал в Чехове исключительно верно. У Чехова открылось «положительно-прекрасное» начало в сотнях подобных же характеров, почти во всех, попавших в зону его внимания. Не говоря уже о любимом им типе среднего интеллигента-врача, военного, гимназиста, учителя и т. д. – оно вскрылось в причудливых и затоптанных, так сказать, формах у самых что ни на есть обделенных, чудаковатых или мрачных его персонажей.
Другое дело, что эти люди оказывались как бы недостойны самих себя. Они часто проваливались, как на экзамене, уступали, пасовали перед трудностями, беспечно проматывали свое достояние. Но оно было, вернее, обнаружилось благодаря Чехову у каждого обыкновенного человека (очень важное для него слово). Идеальное, прекрасное засветилось внутри них, вокруг и рядом с ними, в обыденной жизни.
Это и было его мировоззрение, целое миропонимание, заключенное в «поэму сжатую поэта». И не его вина, что на языке «полемики журнальной» оно, по условиям времени, распространиться не смогло. Памятным примером осталось письмо Н. К. Михайловского по поводу «Степи», – в которой, по искреннему убеждению критика, Чехов брел «незнамо куда и незнамо за чем. Это пройдет, должно пройти, Вы будете не только не служить злу, а прямо служить добру…». То же самое, что в свое время писал Пушкину Чаадаев: «…мое пламеннейшее желание, друг мой, видеть вас посвященным в тайну времени. Нет более огорчительного зрелища в мире нравственном, чем зрелище гениального человека, не понимающего свой век и свое призвание. Когда видишь, как тот, кто должен был бы властвовать над умами, сам отдается во власть привычкам и рутинам черни…» и т. п. Обоим не приходило в голову, что не Пушкину и Чехову надо бы учиться у них, а им следовало учиться у Пушкина и Чехова и через Пушкина и Чехова – у «прекрасной суровой родины» (генеральная идея «Степи»).