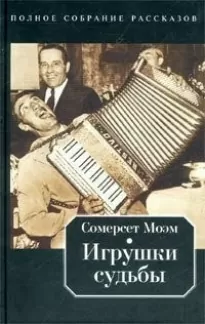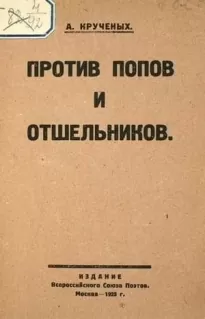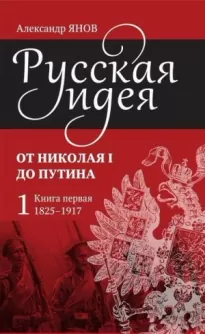Пушкин и тайны русской культуры

- Автор: Сергей Куняев
- Жанр: Литературоведение / Культурология
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Пушкин и тайны русской культуры"
Явление Шолохова
Шолохов не дожил до своего восьмидесятилетия, как дожил Толстой; но он, подобно Толстому, оставил нам эпос, так что теперь у нас, в русской литературе, их два, как и в древности: «Илиада» и «Одиссея». А если не забыть «Слово», то, наверное, и три.
Что такое эпос, лучше всего видно в сравнении. Попробуйте выделить Бунчука из «Тихого Дона» и вообразить себе произведение с ним в центре, с его точки зрения. Получится что-то знакомое, очень сильное, наверное, очень похожее на «Как закалялась сталь». Или Штокман. Поставьте его в центре повести – тотчас же всплывет в сознании фадеевский «Разгром». Или возьмите маленькую сцену, всего несколько строк, как погибает, окруженный повстанцами, интернациональный отряд. Казаки увидели нечто для себя апокалипсическое: «…после трех залпов из-за песчаного бугра поднялся во весь рост высокий смуглолицый и черноусый командир. Его поддерживала под руку одетая в кожаную куртку женщина. Командир был ранен. Волоча перебитую ногу, он сошел с бугра, поправил на руке винтовку с примкнутым штыком, хрипло скомандовал: – Товарищи! Вперед! Бей беляков!» Что это такое, как не сжатая в один кадр «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского.
Михаил Шолохов
Да, самые лучшие влиятельные книги советской литературы выглядят в сравнении с Шолоховым только частями, голосами внутри его создания. А его точка зрения обнимает всех, это как бы точка зрения самой истории. Тяжесть и суровость, возникающие при впечатлении от первого общения с нею, вытекают из этой разницы взгляда.
Замечательная фраза мелькает в разговоре Григория и его брата Петра. «Об чем хочешь толковать? – Обо всем». Таков и метод Шолохова. О чем бы он ни толковал, к чему бы ни прикасался, он говорит обо всем; не обо всем понемножку, но обо всем сразу. Это отражает его положение в истории нашего общества.
За короткие сроки наш народ пережил многое: три революции, самую суровую в истории гражданскую войну и интервенцию, коллективизацию, две мировые войны. Все главное, что совершалось в мире за это столетие, не обошло его стороной, но посетило центром, стержнем урагана; здесь скопился ни с чем не сравнимый мировой опыт. И вот, оглядываясь, получив некоторое время его осмыслить, мы убеждаемся теперь, что наиболее полным выражением этого опыта в искусстве является Михаил Шолохов.
Собственно, это и определяет для литературы XX века его значение. После достаточно долгих проверок и сопоставлений мы видим теперь, что пришел писатель на целую эпоху, открытую революцией. Вглядываясь в лица, вызванные им к жизни, переживая их судьбу, мы входим в задачи, поставленные на весь этот исторический период, – частью решенные, частью пробивающие вперед народный идеал и требующие новых усилий. В каждую из этих задач Шолохов внес нечто новое, понимаемое не сразу.
Удивительно, например, его отношение к так называемой толпе, густой людской массе, которую вывел на арену истории XX век. Хорошо известно, какую трудность она составила для неподготовленной к ее явлению литературы. Ортега-и-Гассет провозгласил эпоху «восстания масс» с уничтожением личности и обязанностью художника уйти в элиту, шифр, код. Он был только самым последовательным; но сколько именитых писателей, считавшихся и искренне считавших себя передовыми, поддались этому впечатлению и увидели в пришедшей массе серый неразличимый поток. Ему приписывалось очистительное или косно-убийственное значение, но одинаково – значение фона для творящей личности, так или иначе откликающейся на «знаки» толпы. Люди в ней потерялись.
Естественно, родилось и желание считать их дураками. Целые корабли дураков поплыли по современной литературе, а умение обличить их убогость стало завоевывать нобелевские премии. Безнадежно жалкое, хотя временами и симпатичное скопление не ведающих что они творят созданий – вот что предстало взору наблюдателя с воображаемой высоты. Обобщение этих настроений дал Джойс в характере обывателя Блума – и моментально стал центром притяжения всех отстранившихся, избранных.
Но русская литература завещала своим наследникам иное. Пушкин говорил Смирновой: «Я такого мнения, что на свете дураков нет. У всякого свой ум, мне не скучно ни с кем, начиная с будочника и до царя». Федька Каторжный у Достоевского замечал про Петра Степановича: «Я, может, по вторникам да по средам только дурак, а в четверг и умнее его».
Правда, разглядеть это в новых обстоятельствах было действительно нелегко, особенно на Западе. Некоторые большие художники, например, Георг Гросс, давшие себя увлечь ожесточению, испытали потом тяжелое разочарование, а попытавшись исправить дело, попали в еще худшее положение: бывшие друзья обвиняли их в предательстве, бывшие критики тянули к ретроградам. Шолохову не в чем было разочаровываться. С первого своего шага он умел поднять среди любых множеств красоту – «очарование человека». И он дал среду, где не теряется ищущая мысль – народ. Ни одной единицы толпы – всегда лицо, независимый характер, даже если ему достались всего две-три строки. Любое его произведение заселено такими людьми, показавшимися раз, чтобы тут же уйти: будь то квартирная хозяйка в «Судьбе человека», которая, все поняв, засуетилась, побежала шить его «сынишке» рубашку; «хороший человек», который говорит озлобленному Тюрникову, подбиравшемуся к Наталье: «что фулюганишь… ротному доложу»… Они проходят и исчезают, но так, что нам приятно сознавать, что каждый мелькнувший где-то есть, живет своей жизнью, что-то соображает, накапливая для нас освобождающий смысл. Тем временем их перекрывают новые, также направляясь куда-то в неизвестные пределы; это разбредание продолжается, мир светлеет, теряет границы; и вот уже начинает являться странная мысль, что, может быть, безвестность – сила будущего, призванная заменить исчерпавший себя индивидуализм, что образованные ею личности будут рассыпаны, как кантовские звезды, но имея каждая в груди моральный закон, – то есть небо и земля соединятся; но это, конечно, фантазии.
А реальность, вероятно, отчетливей других разглядел в довоенной Венгрии Петер Вереш, тогда только начинающий писатель, встретившись впервые с переводом «Тихого Дона»: «Западный, с мещанскими задатками индивидуалист легко понимает Цезаря и Наполеона, Катилину и, пожалуй, даже Троцкого, но не понимает настоящих большевиков, ему необходимо их видеть маньяками, сумасшедшими. Понятным бывает, когда в интересах власти и карьеры человек жертвует жизнью, – в конечном счете его жизнь без этого ничего не стоит. «Героем» легко быть тому, кто отдает жизнь, лишь бы войти в историю, легко им стать и тому, кто ничего не делает осознанно, – рабу настроения, идеи; но осознавшему свое дело человеку нужно проявить себя там, где он не может рассчитывать на славу как на награду, ибо он знает – миллионы людей, таких же, как он, участвуют в революции. Это уже великое призвание, на такое способны только люди совершенно нового типа. Шолохов сделал открытие: показав этот тип человека, показав его в развитии»…
Первый взгляд со стороны, как это бывает, схватил главное. Можно назвать еще одного великого писателя XX века, хотя и мало похожего на Шолохова, но прошедшего, как и Шолохов, опыт революции в России, который высказал подобное же убеждение. Этот писатель начал свою книгу следующими словами о своем герое: «он не поджег храма богини в Эфесе, как это сделал глупец Герострат, для того чтобы попасть в газеты и школьные хрестоматии. И этого вполне достаточно». Это был, конечно, Ярослав Гашек. Но не правда ли, странно: «вполне достаточно» – не стремиться в газеты и хрестоматии. Однако Гашек знал, что говорил. Идея безвестной правды отвечала глубоким надеждам поднявшихся к революционному переустройству масс, их представлениям об идеале человека.
Так и у Шолохова: народность была у него не предметом описания, но существом натуры. Ею он измерял происходящее, предвидя и многие наши текущие дела. Вот мы обсуждаем сейчас вопросы социальной справедливости. Но послушаем, что сказал корреспонденту «Правды» Шолохов в 1974 году. Его спросили, что мешает нашему движению вперед.
«Думаю, – сказал Шолохов, – что прежде всего нужно помнить о чистоте коммунистических идеалов… Представь, чтобы Толстой пришел в редакцию «Нивы» пристраивать рукопись своего сына. Или Рахманинов просил бы Шаляпина дать своей племяннице возможность петь с ним в «Севильском цирюльнике». Или еще лучше, Менделеев основал бы Институт и посадил туда директором своего сына… Не улыбайся. Над этим стоит подумать. И не потому, что такие молодые люди плохи, без таланта. Совсем не потому. Но теми легкими возможностями, которые им предоставлены, они, быть может, заглушают более сильный талант, задерживают его развитие и проявление. Как видишь, это не личное дело каждого, а народное».
Иными словами, там, где Шолохов находил, что самодеятельность народа может быть по каким-либо причинам перегорожена и стеснена, он видел угрозу всему движению истории. И он звал нас, не уставая, следить за этим, – раз уж общество взялось строить отношения между людьми не на рыночной основе.
Можно предположить, что идея самодеятельности сказалась и на самом составе, качестве его мысли. Мы постоянно сталкиваемся у него с чем-то непредусмотренным, непроизвольным, независимым – и одновременно выявляющим общий смысл. Шолохов остается одним из редких художников XX века, которые умели соединить целенаправленную идею с тем, что называется свободной правдой жизни.
Иногда он прямо указывает на нее: «Свои неписаные законы диктует людям жизнь. Через три дня ночью Евгений вновь пришел в половину Аксиньи, и Аксинья его не оттолкнула». Но чаще мы просто невидимо встречаемся у Шолохова с той особенностью настоящего художественного образа, когда он способен нести не только идею, но и контроль над ней, иметь как бы постоянного представителя действительности внутри мысли, – которая от этого оживает, сбрасывает клише и начинает учитывать в каждой пылинке непредсказуемую полноту мира. Читая Шолохова, мы хорошо понимаем, почему сказал Пушкин, рассердившись на одного писателя, что тот «не имеет жизни, т. е. истины», почему утверждал Чернышевский, что «прекрасное есть жизнь». Мощный напор жизненной правды, обнаруживаемый у Шолохова и ломающий любой догматизм, не имеет себе подобия в современной литературе и может быть сравним разве что с Толстым.
Мне приходилось уже ссылаться на один пример, но уже очень он кратко-показателен и, вероятно, может открывать при рассмотрении новые стороны. Это момент, когда на переговорах с Калединым, сверкая боевыми орденами, кричит Подтелкову подъесаул Шеин: «…за Вами, за недоучкой и безграмотным казаком, пойдет Дон? Если пойдут, так кучка оголтелых казаков, какие от дома отбились! Но они, брат, очнутся, – и тебя же повесют!» Обвал аплодисментов встречает это обещание. И вот через некоторое время мы видим, как эти казаки действительно ведут Подтелкова к неумело сооруженной виселице. Куда уж более убедительная логика и, казалось бы, необратимый вывод. Однако что говорит нам через все это логика жизни, вошедшая в образы, раскрывающая их смысл? За кем остается правда?