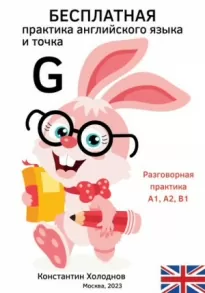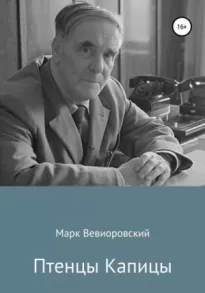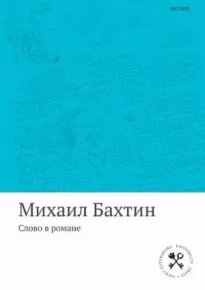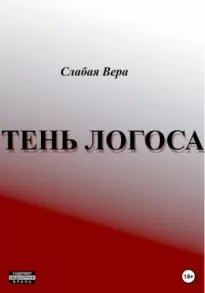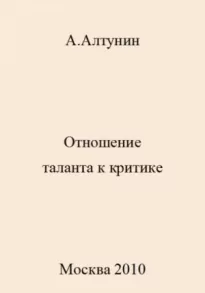Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени

- Автор: Рубен Будагов
- Жанр: Языкознание
- Дата выхода: 1978
Читать книгу "Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени"
1
Положение о том, что язык – это общественное явление, общественный феномен уже давно стало трюизмом. В наше время, едва ли найдется серьезный человек, даже далекий от лингвистики, который не понимал бы, что язык существует в обществе и дает возможность людям понимать друг друга, общаться друг с другом. А такие понятия, как общество, общение, общественный, связаны между собой не только этимологически, но и функционально. Поэтому общественная (социальная) природа языка кажется совершенно очевидной.
Однако это положение сейчас же перестает быть трюизмом, если мы попытаемся ответить на вопрос о том, что такое общественная (социальная) природа языка, как следует понимать в этом словосочетании прилагательное общественный?[205] Больше того. В лингвистике нашего времени здесь существуют прямо противоположные толкования. Пока отмечу лишь две полярные концепции: для одних ученых «социальная природа языка» отождествляется лишь с внешними условиями бытования каждого отдельного языка, для других – «социальная природа языка» – это сам язык в процессе его функционирования. В свою очередь каждая из этих противоположных доктрин имеет множество градаций и подразделений, о которых речь пойдет в дальнейшем изложении.
Обратим внимание и на другие принципиальные расхождения. Как следует понимать раздел языкознания, который обычно именуется социальной лингвистикой или социолингвистикой? Если имеется особый раздел науки о языке, посвященный социальной природе языка, то в каком отношении к этому разделу находятся другие разделы лингвистики? Оказываются ли они антисоциальными разделами или здесь идет речь лишь об условном терминологическом разграничении? Но в таком случае, как следует понимать другое разграничение – внешних и внутренних законов развития и функционирования языка? Правомерно ли отождествлять внешние законы с законами социальными, а внутренние – с законами имманентными? Как видим, то, что поначалу могло показаться трюизмом, – в действительности, при пристальном рассмотрении, не только не оказывается трюизмом, но превращается в целый ряд серьезных проблем, освещаемых с самых различных позиций учеными различных методологических убеждений и ориентации.
Разумеется, нельзя сказать, что до сих пор никто не замечал своеобразных «подвопросов», на которые распадается большой вопрос о социальной природе языка. Подобные «подвопросы» нередко ставились и раньше. Но – странное дело! – ставя подобные «подвопросы», исследователи обычно либо тут же отодвигали их в сторону, либо забывали о них в процессе исследования конкретного материала.
Пока приведу лишь один пример. Авторы коллективной монографии «Русский язык и советское общество» сделали попытку преодолеть одностороннее противопоставлеление «внешнего и внутреннего» в процессе функционирования языка. Составители этой монографии правильно отметили, что «…внутренние двигатели развития языка социально отнюдь не инертны». Значение этого важного и бесспорно правильного положения тут же, однако, было сведено на нет утверждением:
«Выражения социальные факторы, внеязыковые факторы, внешние факторы… употребляются как синонимические»[206].
После этого вопрос о том, как же следует понимать тезис – «внутренние двигатели развития языка социально отнюдь не инертны» – остался без ответа. Понятие социального в языке авторы сборника продолжают отождествлять с понятиями внеязыкового, внешнего. Сближение внутреннего и социального понадобилось авторам лишь для общей декларации. Между тем в науке о языке, как, впрочем, и в любой науке, общие декларации только тогда приобретают подлинную силу, когда они подкрепляются тщательным анализом конкретного материала. В противном случае они остаются лишь декларациями.
Мне уже приходилось писать о том[207], что положение о социальной природе языка резко осложняется в концепции тех лингвистов, которые и в наши дни продолжают противопоставлять такие понятия, как «лингвистические процессы, вызванные социальными факторами» и «лингвистические процессы, вызванные имманентными факторами». Больше того. Многие лингвисты и у нас, и за рубежом считают, что объяснить какое-либо лингвистическое явление ссылкой на социальный фактор, вызвавший это явление, значит признать свое бессилие как лингвиста[208]. Но тогда как следует понимать социальную природу языка? Хочется подчеркнуть при этом само понятие природы языка.
Разумеется, этот вопрос совсем непростой. Сказанным я отнюдь не хочу отождествить понятия лингвистический и социальный. Это, конечно, разные понятия. Но объясняя те или иные явления в процессе функционирования языка социальными факторами, исследователи не покидают сферы теории языка, а, напротив, углубляют эту сферу, показывают ее огромные возможности. Социальные факторы в самом языке, а следовательно, и в теории языка, как общее правило, «действуют» сквозь призму самого языка, его системы. Поэтому отнюдь не отождествляя понятия социального и лингвистического, исследователи вместе с тем должны стремиться не только разграничить эти понятия (что обычно и делается), но и показать их взаимодействие в процессе функционирования каждого конкретного языка или группы языков. Это задача гораздо более трудная, и в таких областях языка, как, например, фонология или грамматика, почти никем еще не осмысленная. Кое-что сделано лишь в сфере лексики и стилистики, но до наших дней все еще очень немного[209].
Конечно, здесь могут возникнуть обвинения в защите принципов вульгарной социологии. Однако попытка связать развитие и функционирование каждого конкретного языка с социальными (в самом широком смысле) явлениями сама по себе не только не является вульгарной, но совершенно необходимой предпосылкой для тех лингвистов, для которых положение о социальной природе языка является не простой, ни к чему не обязывающей декларацией, а выступает как «руководство к действию». Другой вопрос, кáк проводится подобное исследование. В фонологии и морфологии социальные факторы дают о себе знать совсем иначе, чем в лексике, в синтаксисе или в стилистике. В свою очередь в каждой из этих областей обнаруживается своя специфика. Вульгарным не может оказаться самый принцип взаимодействия социального и лингвистического, стремление установить социальный фон тех или иных процессов в языках в разную эпоху их бытования. Вульгарным может оказаться прием, способ истолкования взаимодействия социального и лингвистического в процессе анализа языкового материала.
Из множества возможных иллюстраций приведу здесь только два примера, показывающие, как недопустимо понимать социальный фон грамматических процессов.
Эти примеры (один старый, другой новый) сейчас в лучшем случае могут вызвать только улыбку. В свое время немецкий филолог О. Вейзе в книге о структуре латинского языка, стремясь объяснить, почему в латинской морфологии меньше флексий, чем в морфологии греческого языка, с серьезным видом ссылался на характер древних римлян, которые
«чуждались всякой роскоши в языке, так же, как они чуждались ее и в жизни»[210].
Прошло свыше пятидесяти лет, и один из французских ученых в большой монографии об особенностях французского глагола утверждает уже в наше время, что для «воинственного общества» глаголы более характерны (они передают действие), чем для «общества невоинственного»[211]. Разумеется, такого рода «толкования» лишь компрометируют принцип социальной обусловленности языка. В этом, однако, повинен, разумеется, не самый принцип, а его незадачливые комментаторы. К сожалению, с такого рода «истолкователями» социальной природы языка приходится до сих пор встречаться нередко.
Нельзя не учитывать, что подобного рода «объяснения», все еще бытующие в науке, приводят к тому, что многие серьезные ученые, так сказать, с порога отвергают всякие попытки, в том числе и попытки совсем иного рода, осмыслить социальный фон грамматических процессов, совершающихся в разных языках. Отсюда и возникло широко распространенное и почти всеми принимаемое противопоставление внутренних процессов в языке процессам социальным. В результате понятия социального и лингвистического выступают не как взаимодействующие, а как понятия антагонистические. Тем самым, казалось бы, всеми признанная аксиома о социальной природе языка перестает быть аксиомой и превращается в недоказанную гипотезу. Я еще попытаюсь вернуться к этому важнейшему вопросу, а сейчас хочу обратить внимание на другую сторону проблемы.
В совсем недавно вышедшем у нас коллективном сборнике утверждается, что «социальная лингвистика – это молодая отрасль современного языкознания», а на следующей странице этого же сборника сообщается, что «социальная лингвистика в СССР имеет давнюю традицию»[212]. Здесь не было бы никакого противоречия, если читатели знали, что существуют совершенно различные осмысления социальной природы языка: в одном осмыслении эта область лингвистики действительно выступает как новая, в другом – как достаточно старая. При этом – и это очень важно! – старое осмысление социальной лингвистики (о самом этом термине речь пойдет дальше) связано с материалистическими традициями науки о языке в СССР, а новое осмысление, казалось бы, того же предмета, с осмыслением нередко антиматериалистическим. Это не означает, разумеется, что осмысление социальной лингвистики в нашу эпоху не вносит ничего нового и в самый предмет изучения (здесь немало интересного!), но это означает, что методологические расхождения в истолковании социальной природы языка наметились и сформировались уже давно.