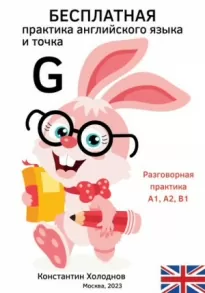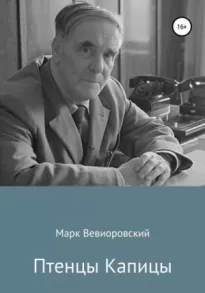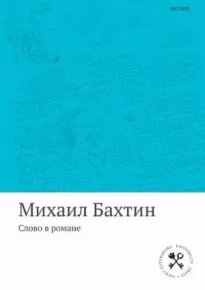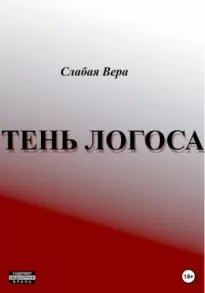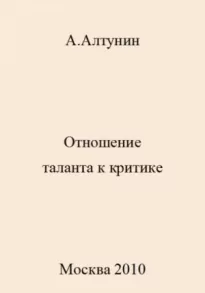Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени

- Автор: Рубен Будагов
- Жанр: Языкознание
- Дата выхода: 1978
Читать книгу "Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени"
3
В чем же, однако, сложность самой попытки социолингвистического рассмотрения грамматики? На одно из таких осложнений уже было обращено внимание в предшествующих строках (боязнь оказаться на позициях вульгарной социологии). В действительности таких осложнений немало. Между тем пока грамматика (душа всякого естественного языка) будет считаться областью, недоступной социолингвистическому анализу, тезис, утверждающий социальную природу всякого языка, остается простой, если не пустой декларацией.
Обратим внимание на другую трудность. Часто приходится слышать, что история формирования грамматики каждого языка – это постепенное движение от конкретных категорий к категориям абстрактным. В самом общем плане подобное утверждение справедливо, но лишь как общий постулат, постоянно нарушаемый конкретным материалом разных языков.
Уже А.А. Потебня, со свойственной ему остротой и глубиной мысли, совершенно справедливо подчеркивал:
«Нельзя охарактеризовать развитие языка его стремлением к отвлеченности, не прибавив, что вместе с тем развивается и его способность изображать конкретные явления»[229].
В истории самых различных языков растут и крепнут не только их абстрагирующие возможности, но и их способности точно передавать конкретные представления. Китаистам, например, хорошо известно, что в письменных памятниках китайского языка конца первого тысячелетия до нашей эры уже встречались абстрактные числительные, хотя позднее возникает другой счет, опирающийся на конкретные предметы[230]. Здесь движение определяется не типом «от конкретного к абстрактному», а более сложным типом – «от абстрактного к конкретному, а затем вновь к абстрактному». Правда, в этом ряду второе абстрактное обычно предстает как абстрактное качественно иного характера, чем первое абстрактное.
Все это говорит о том, что развитие грамматики разных языков не определяется какой-то универсальной схемой, а зависит от многих условий, подлежащих самому тщательному изучению[231].
К сожалению, проблема языка и мышления – одна из центральных проблем теоретического языкознания, которая в работах советских лингвистов 30 – 40-х годов действительно занимала видное место, после лингвистической дискуссии начала 50-х годов была отодвинута на самый задний план. За последние 25 лет у нас появились лишь немногие работы, в которых специально, а чаще всего бегло и попутно рассматривались вопросы, относящиеся к взаимодействию языка и мышления[232].
Причины, вызвавшие подобный «уход» от одной из центральных проблем науки о языке, были многочисленны. Прежде всего надо отметить влияние формалистической лингвистики, объявившей проблему языка и мышления проблемой схоластической и несовременной. Уже в 1952 г. американский ученый Ч. Фриз подчеркивал, что все «беды современного языкознания» будто бы определяются былым стремлением филологов как-то связать язык и мышление[233]. Немного позднее об этом же писал и глава лондонской школы лингвистов Дж. Ферс, считавший дихотомию «язык и мышление» лишь «обузой (nuisance) для всякого лингвиста»[234].
И какие только доводы не выдвигались за последние четверть века против проблемы взаимодействия языка и мышления! В идеалистической философии нашего времени обычно считают, что «подлинное мышление» проходит мимо языка, оно будто бы не нуждается во вмешательстве «грубых форм языка». При этом ссылаются на наличие многоязычия.
«Если бы человек мыслил на определенном языке, то всякое изучение нового языка стало бы невозможным»[235].
Этот очень старый аргумент по существу своему не только несостоятелен, но и наивен, хотя уже в 1818 г. его защищал такой видный философ, как А. Шопенгауэр[236]. Позднее с аналогичным тезисом выступал Е. Дюринг. Рассматривая положение Дюринга, согласно которому отвлеченное мышление протекает без языка, Ф. Энгельс заметил:
«Если так, то животные оказываются самыми отвлеченными и подлинными мыслителями, так как их мышление никогда не затемняется назойливым вмешательством языка»[237].
Дюрингу казалось, что «вмешательство материи языка» огрубляет проблему мышления. В действительности подобное «вмешательство» ставит проблему языка и мышления на твердые основания.
Против проблемы взаимодействия языка и мышления выдвигаются, однако, не только старые доводы, но и новые. Рассмотрим кратко некоторые из них.
В последние годы многие лингвисты стали говорить не о взаимодействии языка и мышления, а о взаимодействии языка и «речевого мышления»[238]. Спору нет, в языке действительно существуют специфические «мыслительные категории», которые лингвист обязан уметь выявлять и анализировать. Но при этом лингвист обязан уметь делать и другое: устанавливать, какое отношение существует между подобными, казалось бы, чисто языковедческими категориями и категориями человеческого мышления вообще. Пусть те и другие категории не всегда и не во всем совпадают, но, если исследователь замыкает свой анализ «мыслительными категориями языка», не ставя вопроса о взаимодействии между подобными категориями и категориями человеческого мышления вообще, он невольно замыкает свой анализ «языком в самом себе и для себя» (как известно, это тезис Соссюра).
Между тем в той мере, в какой мышление человека органически связано с языком, подобного рода «замыкание» не может в конечном счете не привести к изоляции (полной или частичной) языка от мышления.
Разумеется, вопрос этот сложный и его нельзя упрощать, но, как представляется, его освещение с определенных методологических позиций имеет принципиальное значение для правильного понимания сущности борьбы идей и научных направлений в современном языкознании. Ведь К. Маркс и Ф. Энгельс всегда подчеркивали, что язык – это действительное, реальное сознание. Поэтому без точного разъяснения (а этого до сих пор никто не сделал), в каком отношении «речевое мышление» находится к общему мышлению и сознанию человека, терминологическое словосочетание «речевое мышление» (быть может есть и «языковое мышление», и «общее мышление»?) остается неясным.
В последние годы возникла и другая, очень широко распространенная теория, согласно которой мышление человека всегда остается неизменным. Изменяется его мировоззрение, тогда как мышление никаким трансформациям не подвержено.
В наше время эту концепцию защищают многие видные ученые. Так, например, Д.С. Лихачев пишет:
«Мышление человека во все времена было в целом тем же. Менялось не мышление, а мировоззрение, политические взгляды и эстетические вкусы»[239].
В свете такого тезиса (на мой взгляд, ошибочного) проблема взаимодействия языка и мышления сейчас же становится неясной: развитие языков народов мира не отрицает ни один серьезный ученый, но подобное развитие при исторически неизменном мышлении становится неясным. Получается, что изменяются лишь формы языка, никак не взаимодействующие с человеческой мыслью. Тем самым оказывается неясным, казалось бы, очевидный тезис, утверждающий взаимодействие языка и мышления.
Конечно, в той постановке вопроса о взаимодействии языка и мышления, которая была характерна для советского языкознания 30 – 40-х годов, некоторые положения уже устарели. Но многое до сих пор сохраняет все свое значение. Поэтому никак нельзя согласиться с теми учеными, которые в наши дни утверждают, что современная постановка вопроса о языке и мышлении «абсолютно несопоставима с прошлым», с тем, как ставился этот же вопрос в 40-е годы[240]. На мой взгляд, гораздо более правы те историки и этнографы, которые защищают тезис, утверждающий историческое развитие человеческого мышления[241]. Еще в начале нашего столетия выдающийся этнограф Ф. Боас убедительно развивал такое положение: дело не в том, что, например, индейцы не могут передавать абстрактные понятия (в принципе, они в состоянии это делать), но дело в том, что в определенные исторические эпохи у тех же индейцев может отсутствовать общественная необходимость в передаче подобных понятий и представлений[242].
На мой взгляд, подобная постановка вопроса отличается историчностью. Она весьма убедительна. Она же обнаруживает социальную природу мышления. А социальная природа мышления помогает глубже понять и социальную природу языка. Тогда и тезис, утверждающий взаимодействие языка и мышления, перестает быть простой декларацией.
В первой половине нашего столетия известный французский философ и этнограф Л. Леви-Брюль в целом ряде своих исследований стремился показать, как исторически развивалось мышление человека. И хотя в концепции этого ученого было немало слабых мест (несколько прямолинейное истолкование стадий мышления), в целом его доктрина была несомненно прогрессивной[243].
Уже в нашу эпоху другой французский историк и этнограф, ученый, фамилия которого оказалась частично омонимичной с фамилией первого исследователя, К. Леви-Стросс занял иную позицию: тоже пристально изучая мышление древнего человека, он стремится установить прежде всего мифологический характер подобного мышления, устраняя вопрос об его исторической периодизации. Но постановка вопроса о мифологическом характере мышления древнего человека уже сама по себе заставляет задуматься над проблемой развития, совершенствования мышления, над тем, что мышление человека исторически может быть более зрелым или менее зрелым. Все это не имеет никакого отношения к «врожденным способностям» тех или иных народов. Но в строго историческом плане проблема представляет большой интерес[244].
У нас есть все основания считать, что классики марксизма придавали большое значение общей теме – язык и мышление. Язык, писал К. Маркс,
«элемент самого мышления…, в котором выражается жизнь мысли…»[245]
«…разум человека развивался соответственно тому, как человек научался изменять природу»[246].
В первом случае подчеркивается органическая связь языка и мышления, во втором – развитие разума в процессе трудовой деятельности человека.
«Движение, – подчеркивает Ф. Энгельс, – рассматриваемое в самом общем смысле слова, т.е. понимаемое как способ существования материи, как внутренне присущий материи атрибут, обнимает собой все происходящие во вселенной изменения и процессы, начиная от простого перемещения и кончая мышлением»[247].
Здесь прямо связываются понятие о движении и понятие о мышлении. Следовательно, мышление человека подвижно, оно развивается, причем развивается не в плане простого перемещения, а в плане высшей формы движения («…кончая мышлением»).
Столь же важные и глубокие суждения по этому вопросу находим и у В.И. Ленина:
«…если всё развивается, то относится ли сие к самым общим понятиям и категориям мышления? Если нет, значит, мышление не связано с бытием. Если да, значит, есть диалектика понятий и диалектика познания, имеющая объективное значение»[248].
Как видим, В.И. Ленин обосновывает важный тезис, утверждающий органическую связь не только между понятием о мышлении и понятием о движении, но и между понятием о мышлении и понятием о развитии. Мышление человека не только изменяется (движение), но и развивается, т.е. качественно совершенствуется. Эту же мысль В.И. Ленин подчеркивает и в другом месте. Комментируя введение к «Лекциям по истории философии» Гегеля, В.И. Ленин замечает: