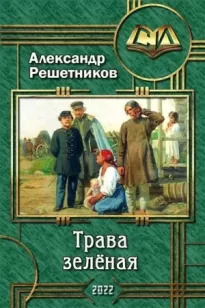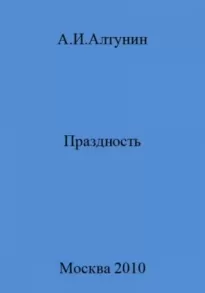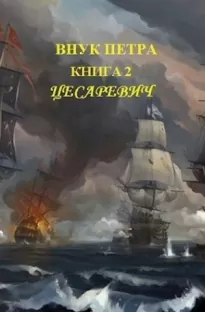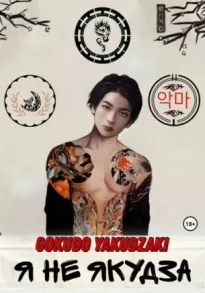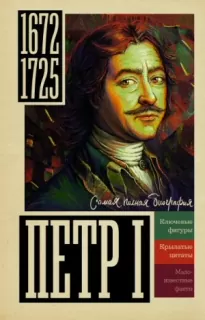Граф Остерман
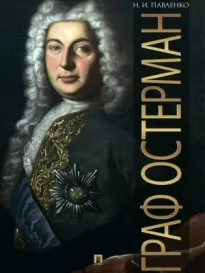
- Автор: Николай Павленко
- Жанр: Биографии и Мемуары / История: прочее
- Дата выхода: 2018
Читать книгу "Граф Остерман"
— Ваша воля, — обратился он к слушателям, — кого изволите, только надобно себе полегчить.
— Как это полегчить? — спросил канцлер Г. И. Головкин.
— Так полегчить, чтобы воли себе прибавить — ответил Д. М. Голицын.
— Хоть и зачнем, да не удержим, — заметил осторожный князь Василий Лукич Долгорукий.
— Право удержим, — настаивал на своем Дмитрий Михайлович и тут же добавил: — Будь ваша воля, только надобно написать послание к ее величеству.
У уставших от непривычных событий членов Верховного тайного совета возникло желание отдохнуть, и они разошлись на отдых, чтобы вновь собраться в десять часов. Около этого времени князь Дмитрий Михайлович объявил сенаторам, генералитету и присутствовавшему шляхетству об избрании императрицей Анны Иоанновны. Известие было выслушано с одобрением.
Почему выбор пал на герцогиню Курляндскую, о которой никто не помнил? Герцогиня Курляндская Анна Иоанновна по аттестации де Лириа была наделена несколькими привлекательными свойствами натуры. Она «тридцати шести лет от роду, очень величественной представительственности, очень любезна, отличается большим умом и… достойна трона».
Отметим, что испанский посланник де Лириа явно переоценивал достоинства Анны Иоанновны, тем не менее Голицын вместе с остальными «верховниками» выдвинули ее кандидатуру в императрицы, руководствуясь не тем, что она обладала перечисленными выше достоинствами. Их меньше всего интересовали достоинства или недостатки кандидата, Анны Иоанновны, более всего они, остановив свой выбор на курляндской герцогине, руководствовались более важными мотивами. Их было три: во-первых, Анна Иоанновна была вдовой, следовательно, отсутствовала угроза, что честолюбивый супруг мог подменить ее на троне; во-вторых, Анна Иоанновна, проживая два десятилетия в столице Курляндии Митаве, утратила прочные связи с Россией, где она не имела собственной «партии», чтобы на нее можно было опереться. Из этого вытекает третье обстоятельство, на которое «верховники» возлагали особые надежды: лишенная опоры императрица станет марионеткой «верховников» и будет беспрекословно выполнять их волю. Как увидим ниже, их расчеты оказались ошибочными, прежде всего потому, что они учитывали собственные интересы и почти полностью игнорировали интересы основной массы дворянства.
На выбор «верховниками» императрицы Анны Иоанновны, на мой взгляд, оказала влияние и ее непривлекательная внешность, которая по описанию П. В. Долгорукова, выглядела так: «Императрица Анна Иоанновна была ростом выше среднего, очень толста и неуклюжа; в ней не было ничего женственного: резкие манеры, грубый мужской голос, мужские вкусы. Она любила верховую езду, охоту, и в Петербурге в ее комнате всегда стояли наготове заряженные ружья: у нее была привычка стрелять из окна пролетающих птиц. Во дворе Зимнего дворца для нее был устроен тир и охотничий манеж, куда ей приводили диких кабанов, коз, иногда волков и медведиц. Так, 14 марта 1737 г. С.-Петербургские ведомости объявляют, “что е. и. в. Всемилостейшая государыня изволила потешаться охотой на дикую свинью, которую изволила из собственных рук застрелить”; 23 июля объявляется, что на прошедшей неделе в присутствии императрицы состоялись состязания в стрельбе и были розданы призы: золотые кольца, усыпанные алмазами; 27 апреля 1738 г. в Ведомостях объявляется, что императрица застрелила дикого кабана и оленя; в августе 1740 г., за два месяца до смерти Анны Иоанновны, в Ведомостях объявляется, что во время пребывания ее величества в Петергофе (то есть в три месяца) было убито девять оленей, шестнадцать диких коз, четыре кабана, волк, триста семьдесят четыре зайца, шестьдесят восемь уток, шестнадцать больших галок и т. д.». По-видимому, «верховники» полагали, что императрица не привлечет внимание сильного пола и двор не превратится в очаг разврата.
Отметим, по предложению Д. М. Голицына, духовные иерархи были отстранены от участия в событиях и, вопреки настояниям канцлера Головкина, не участвовали в обсуждении кандидатуры на трон. Столь суровому наказанию духовные иерархи были подвергнуты за то, что они благословили вступление на престол Екатерины Алексеевны, игнорируя при этом права законного наследника, каким считался сын царевича Алексея Петр.
На возобновившемся заседании совета «верховники» стали выдвигать условия к избранной ими императрице, обеспечивавшие существенное расширение их полномочий. Поскольку проект условий (кондиций), которыми должна была руководствоваться избранная императрица, отсутствовал, то в Мастерской палате Кремля, где происходило заседание Верховного тайного совета, начался гвалт, в котором чаще других слышались голоса Д. М. Голицына и В. Л. Долгорукова. Записывать пункты в такой обстановке было неудобно. Вот тут и вспомнили об Остермане.
В дни болезни Петра II Андрей Иванович Остерман сказывался больным. Лишь случайно он оказался на заседании Верховного тайного совет, и тогда канцлер Г. И. Головкин и фельдмаршал М. М. Голицын обратились к А. И. Остерману, чтобы тот вместо секретаря совета В. П. Степанова, «яко знающий лучше штиль», сформулировал пункты кондиций. Если бы Андрею Ивановичу была известна повестка дня заседания Верховного тайного совета, он наверняка по обыкновению продолжил бы «болеть», но, застигнутый врасплох, он стал отказываться выполнить просьбу, ссылаясь на то, что он как иностранец «в такое важное дело вступать не может». Однако просьбы выступить в роли редактора были столь настойчивыми, что Остерман вынужден был уступить и участвовать в «затейке верховников», как позже назовет Феофан Прокопович попытку ограничить самодержавие. Однако потом его подписи под кондициями «верховников» не оказалось. О болезни, на деле оказывавшейся притворной, Андрей Иванович объявлял всякий раз, когда в верхнем эшелоне власти возникала сложная обстановка, с ее устранением он немедленно выздоравливал. И на этот раз Остерман избавится от мнимой хвори, как только узнает, что 25 февраля 1730 г. Анна Иоанновна надорвала лист с кондициями и восстановила абсолютную власть монарха, на которую покушались «верховники».
В окончательном варианте «пункты», позже названные «кондициями», выглядели так:
«1. Ни с кем войны не всчинять. 2. Мира не заключать. 3. Верных наших подданных никакими новыми податями не отягащать. 4. В знатные чины как в статские, так и в военные, сухопутные и морские, выше полковничьего ранга не жаловать, ниже к знатным делам… не определять и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета. 5. У шляхетства животы и имения и чести без суда не отнимать. 6. Вотчины и деревни не жаловать. 7. В придворные чины как русских, так и иноземных без совету Верховного тайного совета не производить. 8. Государственные расходы и доходы не употреблять.
И всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать. А буде что по своему обещанию не исполню и не додержу (не выполню. — Н. П.), то лишена буду короны Российской».
Кондиции настолько ограничивали самодержавную власть, что монарху оставляли лишь формальную власть, а реальная власть должна была оказаться в руках Верховного тайного совета, подавляющее большинство которого составляли представители двух родовитых фамилий. Содержание кондиций дает основание полагать, что с принятием их в России должна быть установлена новая олигархическая политическая система, отличавшаяся и от абсолютной монархии, поскольку власть монарха была ограничена, и от парламентской монархии, поскольку власть монарха ограничивалась не в пользу избранного народом парламента, а в пользу бюрократического учреждения, члены которого были назначены верховной властью.
В кризисные дни января 1730 г. в Митаву, где проживала герцогиня Анна Иоанновна, отправилась делегация во главе с князем Василием Лукичем Долгоруковым, которой было поручено объявить герцогине об избрании ее императрицей, а также подписать кондиции, составленные Верховным тайным советом и ограничивавшие власть монархии настолько, что в ее руках оказалось не самодержавная власть, а ее призрак.
Неизвестный художник. Портрет императрицы Анны Иоанновны. XVIII в. Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Назначая В. Л. Долгорукова руководителем делегации, «верховники» руководствовались тем, что у Василия Лукича установились добрые отношения с герцогиней Курляндской. Кроме того, Василий Лукич, имея репутацию опытного дипломата, найдет, как полагали «верховники», способы убедить ее подписаться под кондициями.
Дело в том, что у основных противников «затейки верховников» нашлись оппозиционеры в лице Феофана Прокоповича, П. И. Ягужинского, лифляндца Левенвольде, отправившие в Митаву своих курьеров с письмами, извещавшими вдову, что не только столичные дворяне, но и дворяне, прибывшие в Москву из провинции на свадебные торжества, не состоявшиеся вследствие кончины жениха, не разделяют стремление «верховников» ограничить ее власть.
Как-то один из членов делегации встретил расхаживавшего на улицах Митавы курьера Ягужинского. Легкомысленный курьер тут же был схвачен и допрошен о цели своего приезда в Митаву и немедленно был отправлен в Москву в сопровождении члена делегации генерала Леонтьева. Курьер оказался камер-юнкером герцога Голштинского П. С. Сумароковым. Он, по свидетельству Миниха-младшего, первым известил Анну Иоанновну о ее избрании императрицей и уведомил о том, что «верховники» без одобрения дворянства намереваются ограничить самодержавную власть. Левенвольде советовал Анне Иоанновне подписать бумагу, «которую после нетрудно разорвать», что она и сделала.
Между тем доставленный в Москву Сумароков во время допроса подтвердил ранее данные показания о своей миссии в Митаву и таким образом выдал Ягужинского. Тот был взят под стражу и не отрицал показания Сумарокова. «Верховники» ощутили нависшую над ними угрозу, о чем свидетельствует суровый приговор, вынесенный Ягужинскому. Приговор должен был предупредить всех противников их плана, что их ожидает такая же участь — казнь.
Анна Иоанновна подписала в Митаве следующее свое обязательство, текст которого был заранее составлен в Москве: «Хотя я рассуждала, как тяжко есть правление столь великой и славной монархии, однако же, повинуясь Божеской воле и прося его Спасителя помощи, к тому же не хотя оставить отечества моего и верных наших подданных, намерилась принять державу и правительство, елико Бог мне поможет так, чтобы все наши подданные, как мирские, так и духовные, могли быть довольны.
А понеже к тому моему намерению потребны благие советы, как во всех государствах чинится, того ради пред вступлением моим на Российский престол по здравом рассуждении, избрали мы за потребность для пользы Российского государства и по удовольствованию верных наших подданных, дабы всяк мог видеть и правое наше намерение, которое мы имеем к отечеству нашему и верным нашим подданным и для того, каким способом мы то правление вести хощем, и подписав нашею рукой, послали в Тайный верховный совет, а сами сего месяца в 2 день из Митавы в Москву для вступления на престол. Дано в Митаве 29 января 1730 года».