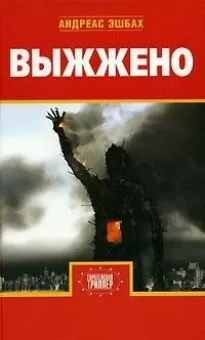Прожитое и пережитое. Родинка

- Автор: Лу Андреас-Саломе
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2002
Читать книгу "Прожитое и пережитое. Родинка"
Темнело. Большие поленья, которые Борис любил подкладывать в печку, ярким пламенем освещали комнату, сам же он растянулся на своей кровати, подложив руки под голову.
— Чем это вы занимаетесь?.. И к тому же без света? — спросила я.
— Снег, видишь ли, должен появиться в нашей голове, — поучительно заметил Борис. — Ты и представить себе не можешь, невинное Божье создание, какие проблемы приходится решать сегодня человеку в этой стране…
Виталий отошел от окна, у которого он стоял, и прервал Бориса:
— Попросту говоря, речь идет об одном фабричном рабочем из Надиной группы.
Михаэль без промедления взял свой стакан чая.
— Да, представь себе, — начал рассказывать он, — это тот самый, что работал на мыловаренной фабрике, а теперь должен возвращаться в деревню. Он прислал целое сочинение, точнее, швырнул нам в лицо, и не сочинение, а настоящую обвинительную речь, писать он научился, это уж точно! Его до глубины души возмущает, что он теперь должен верить, будто звезды, что всегда светили над его деревней, — уже не глаза ангелов, как он думал раньше.
— Да, проклятая отсталость! — зевая, заметил Борис. — Милая святая Русь все еще остается Азией, она умеет только молиться, а не думать. Этой мелочи можем научить ее только мы — мы, то есть Европа.
— Если учить силой — молиться или думать, не имеет значения, — это в любом случае будет принуждением! — буркнул Виталий.
— Нет, ты послушай! — раздраженно сказал Борис. — Вы должны радоваться, что вам не надо проделывать самостоятельно весь исторический путь, пройденный нами, в том числе и в научной жизни, что вы все это получаете в готовом виде, вдолбленным в голову. И возникающие при этом конфликты, в конце концов, — те же самые, что когда-то возникали и перед нами.
— Те, да не те, — со страдальческой миной возразил Виталий. — Ваши были не такими наивными, не возникали в результате «вдалбливания» со стороны! Сюда наука приходит вдруг; с уже давно готовыми результатами, а не вызревает здесь постепенно — нет, ее бросают на нашу почву, как бомбу, готовую взорваться! Внезапное откровение, болезненное, как рана! Пойми же, что живое, единственно своеобразное тут — именно то, о чем так по-детски написал этот рабочий, а не ангельская и не более правильная астрономия, то, что возникает в ней из такого столкновения, из невозможнейших противоречий — из чего-то такого, что испытывает только он, только ему подобные…
Он оборвал фразу на середине.
— Ну а Надя? Она, стало быть, поступает неправильно?! Но тогда почему ты так восхищаешься ее деятельностью? — недоуменно заметил Борис.
— Я не против Нади выступаю, а, скорее, против себя самого, против того, что мне самому не совсем понятно, — тихо проговорил Виталий. Здоровой рукой он поддерживал правую, безжизненно свисавшую, — он иногда делал так, когда его неожиданно начинала мучить боль, а это случалось всякий раз, когда он перенапрягался.
— Что ж, как знаешь, — добродушно вмешался в разговор Михаэль. — В любом случае мы не можем вот гак сразу навести порядок во всей России… Надо стремиться к достижению цели.
— Цели?.. — Виталий обеспокоенно посмотрел на него.
— Господи, по крайней мере, закончить школу, познать жизнь, а там, даст Бог, и профессором стать! В этом заключается моя скромная цель, — вместо смущенно умолкнувшего Михаэля ответил Борис. Он сидел, свесив ноги, на кровати. — Сейчас для тебя важнее всего учеба, разве нет? Но именно в это время тебе приспичило выяснить, какими душевными мужами терзается этот фабричный рабочий. Вперед, господин Обломов! За работу!
Этот разговор прочнее запал мне в намять, чем многие предыдущие и последующие, хотя я, собственно говоря, уловила в нем только одну интонацию, которой раньше еще ни разу не слышала: Виталий — русский, мы — нерусские; себя и Надю он называл «мы» и противопоставлял нам. Даже теперь, когда он не был с ней согласен, — что я восприняла со странным удовольствием. Вдобавок, как выяснилось, Надя только страдала от добровольно возложенной на себя миссии — с помощью научной фразеологии открывать необразованным людям глаза на истинное положение вещей. Но страдала она еще и оттого, что видела, как все эти хорошо знакомые ей с детства крестьяне становятся в борьбе за существование городскими пролетариями. С другой стороны, она тем не менее фанатично верила в получавшее распространение в ее кругах марксистское учение, согласно которому все дальнейшее развитие неотвратимо подчинялось логической схеме — оно отталкивало даже Виталия, хотя он и не мог его опровергнуть.
Буквы, которым Надя учила своих неграмотных учеников, складывались в выводы, которые ее саму скорее угнетали, чем радовали, во всяком случае, складывались они не в утешительные, внушающие надежду «истины», подобные тем, которым она когда-то, не заботясь об их политическом и церковном смысле, пыталась следовать вместе со Спиридоном, живя но законам «братства Христова». С тех пор как кончилось детство и Надя оставила свою южную деревеньку, полную солнца, невежества и грязи, она не знала почти ничего иного, кроме мучительных мыслей, от которых болела голова и кровоточило сердце. Ее внешняя веселость и самообладание, ее всегдашняя готовность трудиться и помогать другим до времени заслоняли, скрывали глубокую печаль; но за этим сияющим покрывалом невинной жертвенности также таилась истинная душа маленькой Нади, как за ханжеской маской священника, должно быть, пряталась «черная душа» Спиридона, двойного предателя.
Я и сегодня не могу сказать, была ли Надя типичной женщиной, с которыми общался тогда Виталий, он знавал многих, о которых мы не имели представления. Время от времени произносилось имя, однажды в мои руки попала фотография, из-за которой я несколько дней смачивала солеными слезами свои послеобеденные бутерброды, потом, однако, выяснилось, что это снимок уже несколько лет назад бежавшей за границу Веры Засулич, стрелявшей в градоначальника Трептова, оправданной судом присяжных и вынесенной публикой из зала заседаний на руках — «первая из террористок», выступивших до организованного террора. Виталий приходил к нам все реже и реже, занятый делами, о которых он нам не рассказывал, но, должно быть, говорил о них с Надей в ее тесной комнатке, ночи напролет проводил со своими друзьями, но у нас они о таких вещах говорить не решались — как потом выяснилось, из вполне обоснованного опасения навлечь подозрение на наш немецкий дом.
От внимания наших родственников — многочисленных дядек и теток, имена которых мы с Борисом давали пасхальным яйцам, — все же не ускользнуло, что у нас часто бывали молодые люди, которые вели себя уж очень «по-русски», и об этом с неодобрением было сообщено отцу. Возможно, он и сам разделял озабоченность родственников, но никогда не говорил нам об этом. Ибо еще сильнее в нем было нежелание навязывать кому бы то ни было выбор друзей или форму общения с ними. Он всегда считал, что его сыновья сумеют заступиться за сестру, а она, в свою очередь, сможет поручиться за соответствующее поведение круга знакомых, из кого бы он ни состоял. Не знаю, соответствовало ли это безграничное доверие отца духу того времени, но уверена в одном: оно действовало на братьев в годы их молодости весьма поощрительно, было им поддержкой и опорой; даже товарищи Виталия стыдились одной только мысли, что могут злоупотребить этим доверием. Вообще-то к нам приходили только немногие из них, да и те крайне редко. Тогда, правда, они ввязывались в горячие споры друг с другом — и все же приходили к согласию, в том числе и с моими братьями, ибо все они были молоды, их ничего не стоило растрогать и привести в восторженное состояние. Первенствовала тут хрупкая, с робким взором Надя — своим тихим голосом, постоянно прерываемым кашлем, она добивалась того, чего не могли другие. Затаив дыхание, слушатели напряженно замирали, когда она с мягкой уверенностью, не страшась даже дьявола, гневно обличала противников народного блага. И я представляла себе, как она спокойно бросает бомбу под ноги своему Спиридону, этому вредителю общества, при этом совсем не испытывая чувства женской мести. Виталий говорил меньше других. Иногда он вступал в спор с Надей, но победа чаще всего оказывалась на ее стороне. Не потому, что ее точка зрения оказывалась предпочтительнее, а потому, что у нее эта точка зрения была. Ибо все явственнее Виталия тянули в разные стороны страстное стремление к духовному саморазвитию и та сила, которую он черпал из своего народа и которая не давала ему остаться наедине с собой.
Многое из того, что происходило вокруг меня, мне еще было непонятно, но я ясно видела, какие красноречивые перемены постепенно происходили во внешности Виталия: одежда его износилась, он похудел и вытянулся. Он перестал брить пробивающуюся бородку, волосы на его голове росли, как им вздумается, глаза порой были отсутствующие, с покрасневшими веками.
Но не только это придавало ему неухоженный вид. Он, очевидно, давно уже не жил у родственников. Тогда где? И получал ли он материальную помощь из Родинки? Об этом он говорил с нами так же мало, как когда-то о матери и об отечестве.
Дедушка остался вереи своей давней заботе о Виталии, который навещал его, но я сомневаюсь, что дедушка хоть в каком-то отношении был осведомлен о нем больше, чем мы. Папе Виталий тоже решительно нравился; ему пришлись по душе его настойчивость, упорство и усердие в учебе, даже безмерность жажды знаний, не позволявшая отдать предпочтение какой-либо одной науке — из благоговения перед знанием, из желания узнать обо всем. Виталий был среди тех немногих, кого отец впускал в свою святая святых, с кем вел серьезные научные разговоры: не смущаясь ничтожностью знаний молодого человека, он, как истинный ученый, — подобно Господу Богу в вопросах морали — интересовался только образом мыслей, то есть тем, что так глубоко сближает самых подготовленных с теми, кто обуреваем жаждой знании.
Порой могло показаться, что отец с его равнодушием к внешней жизни действительно склонен к тому, чтобы — так сказать, в соответствии с мнением тогдашних «летучих листков» — объяснить даже потертые пуговицы на пиджаке Виталия и эту ужасную щетину на его подбородке рассеянностью будущего ученого. Но как же мы заблуждались относительно отца! Это кажущееся восприятие, однако, было обусловлено деликатной сдержанностью, которую Виталию вовсе не полагалось замечать, стало быть, знанием и в этом вопросе. По той же кажущейся причине мы и самого отца воспринимали как «воплощение учености», не догадываясь, Отчего он закоснел в этой отрешенности от мира: оттого, что единственным и живым связующим звеном между ним и родиной была его наука, то, что он мог предложить родине в качестве самого дорогого дара.
Душевный разлад, подобный тому, что разрывал на части Виталия, таким образом вполне благоразумно находил единственно возможное решение.
К концу зимы ближайшие товарищи Виталия покинули город, и только тогда мне стало ясно, что он в полной мере делил с ними кров, голод и все трудности и делал это под чужим именем и с чужим паспортом. Надя тоже уехала. Ее скверный кашель опасно усилился, синие глаза горели лихорадочным огнем, голос становился все более невнятным. Мы пытались склонить ее к отъезду на родину, в южную деревню, и действительно она куда-то исчезла. Только много позже мои братья и я узнали, что она посвятила себя деятельности, последствия которой обрекли ее на заточение в Шлиссельбургскую крепость и на смерть более скорую, чем если бы это случилось в результате чахотки.