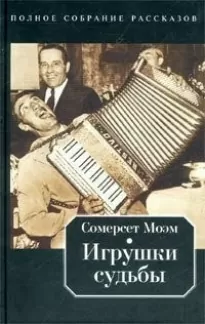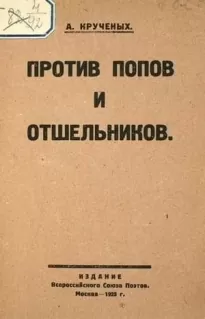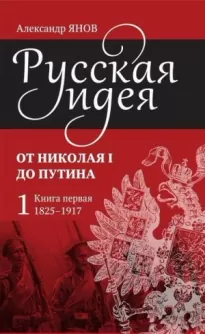Пушкин и тайны русской культуры

- Автор: Сергей Куняев
- Жанр: Литературоведение / Культурология
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Пушкин и тайны русской культуры"
Откуда это сходство? Наверное, не из подражания; как мы. говорили, в литературу хлынул в это время новый формальный поток. Он подхватывал отдельных, удобных ему по «экспериментальному» складу ума писателей и на короткое время превращал их в вождей, глашатаев новой литературной эпохи. Многие из них сами понимали, что история предназначает им не слишком выгодную роль полуфабриката; они сознавали это, но, не смущаясь, продолжали свое дело. Тот же Дос Пассос говорил: «Каждый стоящий романист – это просто-напросто собака, вынюхивающая трюфели; он выкапывает сырой материал, а ученый, антрополог или историк, применяет его впоследствии в своих целях. Конечно, есть Чосер, Гомер и Эдда, но нам до них далеко».
Выбрасываемый ими «сырой материал» был на самом деле тогда полезен, и каждый старался взять его себе как ценность, которая сможет найти множество применений. Среди молодых советских литераторов ходила острота: «Вся страна заросла Пильняком, и только кое-где попадаются Зозули». Когда слава их вскоре схлынула и книги их были читателем забыты, то принципы формы, выдвинутые ими, рассеялись по многим направлениям. В то время существовала возможность передавать и присваивать заготовленные кем-то формы, создавая какое-то техническое единство для образа.
Один английский критик, Уиндэм Льюис, заметил даже, что и сами пионеры авангарда были, строго говоря, неоригинальны, заимствовав свой слог у сэра Альфреда Джингля, знаменитого жулика из «Записок Пиквикского клуба»: «Ужасное место – опасная работа – в другой раз – пятеро детей – мать, высокая леди – ест сэндвичи – весьма» и т. п.
Можно было бы вспомнить и что-нибудь еще более раннее, например доктора Экштейна из гофмановского «Золотого горшка»: «Нервные припадки – само пройдет, на воздух – гулять – развлекаться – театр – «Воскресный ребенок» – «Сестры из Праги» – пройдет!»
Но если бы даже так оно и было, трудно их порицать за плагиат или отвергать действенность этих форм, ибо в то время, в послевоенных и послереволюционных условиях 20-х годов, такой слог приобретал содержательную природу не по отношению к породившей его личности, а по отношению к жизни. Неважно было, кто его изобрел, довольно было того, что он откуда-то показался, – искали форм для больших жизненных пластов и реквизировали их сразу, где бы они ни явились.
Читателю, который знает наиболее популярных советских писателей, любопытно было бы задать такую стилистическую загадку: кому принадлежит следующий говор, чей это неповторимый язык?
«Уважаемые граждане – и тоже гражданочки, которые вон там, я вижу, смеются, невзирая на момент под названием вечер воспоминаний. Я вас, граждане, спрашиваю, желательно вам присоединить к себе также и мои воспоминания? Ну, ежели так, прошу вас сидеть безо всяких смехов и не мешать предыдущему оратору.
Перво-наперво я, может быть, извиняюсь, что мои воспоминания напротив всего остального есть действительно горький факт…
… Тут за воротами на дороге является новый факт в виде человека, который бежит к нам во весь дух и руками машет. И постепенно глядим, что это оказывается наш Степка из города, согласно своему письму, морда у него блаженная, сверху слеза течет, и руками – вот этак вот – вроде крыльями, ну, прямо сейчас полетит по воле воздуха, как известная птица. И притом кричит: «Братцы, братцы, произошло свержение и революция, и у меня сердце сейчас треснет от невозможной свободы, и ура!»
Сомнений нет – это Зощенко. Это его юмористическая манера, болтливый, косноязычный коммунально-квартирный жаргон, страстно домогающийся прав на «культурность», отождествляемую с канцелярией; словесный образ обывательщины, тянущейся из рассказа в рассказ. И читатель будет прав, это действительно неотъемлемый слог Зощенко, но только взят он на этот раз не у известного сатирика, а там, где он определился, – в рассказе Замятина «Слово предоставляется товарищу Чурыгину». Для Замятина это был литературный опыт, упражнение пера; его собственный стиль «холодного мастера» был совсем иным. Для Зощенко, однако, этот слог был совершенно незаменим, потому что писатель самим складом своего дарования тяготел к «обывательским» темам и образам; соединив с ними этот стиль, он создал особый художественный мир.
Другой пример подобного же соотношения из американской литературы (хотя разница в таланте между «заимодавцем» и новым художником была на этот раз неизмеримо больше) – Эрнест Хемингуэй и Гертруда Стайн. Несомненно, что знаменитая хемингуэевская фраза была открыта именно этой писательницей как объективная стихия, «веяние времени». И когда Хемингуэй быстро завоевал мировое признание, Стайн даже попыталась дать «новичку» понять, кому он обязан. Но Хемингуэю не нужно было оправдываться. Формы эти принадлежали времени, то есть всем; задача была в том, чтобы понять их смысл, найти их место в художественном образе, а для этого нужно было уже нечто иное. Нужны были знания, талант, воображение и всестороннее представление о том, как, почему и для чего говорит этими «знаками» душа. Авангардист, как наполеоновский солдат, только находит плиту с таинственными письменами; художник её читает.
Иными словами, в 20-е годы, в отличие от начала века и нашего времени, был такой период, когда «общие» формы выступали не только стандартом или технической мертвечиной; их необходимо было лишь: а) эстетически открыть, б) содержательно прочесть.
Те из художников, которые не видели для себя подходящих форм в современности, смело обращались к прошлому. Они либо занимали их у ближайших классиков, очень часто у Л. Н. Толстого, либо брали за образец библейскую притчу с ее неуклонно-моральным развитием мысли как простой цепи событий, конец которых неотвратим, либо вернулись, чтобы «заковать» и обуздать разнообразие, к старому белому стиху, либо, наконец, приняли, как Томас Манн, старинный и добротный стиль хроники, где рассказ лился умиротворяюще, поверх событий, сцепляя их в один «божий промысел», но в зависимости от колебаний смысла давал постоянно новый отблеск – под самый современный, подходящий к случаю стиль.
Однако чем дальше, тем яснее обнаруживалось, что эта литература явилась переходной, вынуждено экспериментальной. Искусство, как оказалось, все-таки больше здесь теряло, чем приобретало в развитии, потому что развитие в нем невидимо подменялось сочетательством, набором, конструктивным изготовлением. Чем больше накапливалось «гениальных форм», чем выше превозносилась способность найти «новую технику», тем несомненней открывалось, что применить ее, в сущности, можно скорее для умерщвления, чем высвобождения таланта.
То есть не на этом мог строиться и жить художественный образ.
Вновь подтвердилось, что книги, которые были. приняты всеми – от интеллектуалов до любителей «что-нибудь почитать» – и остались такими на будущее (например, «Швейк» или «Тихий Дон»), находили форму для себя сами, а те, что отдавали себя в руки тому или иному формальному принципу, невольно замыкались им или, если их авторы обладали большим талантом, оказывались для писателя полем изнурительной, тяжелой борьбы «на прорыв» сквозь собственное мастерство. В подобном положении мы вполне очевидно находим, читая их романы, таких знаменитостей, например, как Томас Манн или Хемингуэй.
Кроме того, выяснилось, что своим стремлением забежать во что бы то ни стало наперед экспериментальная литература заслоняла от нас то, что было в 20-х годах действительно важного. Ее шум и перехватывание технических нововведений создали своего рода рекламную эстафету, которая все время была на виду – передавая палочку новизны от одного метра другому, – так что глаза не отрывались от происшествий именно этого ряда. Публичные ссоры, отречения, внезапные раздумья и решения «стать зрелым», будто бы доверительные просьбы к читателю поразмыслить вместе о кризисе собственного духа или мастерства – и все это при поддержке не могущей упустить свои интересы прессы – образовали непрерывную цепь, за которой можно было следить, ничего почти не зная о настоящих художниках.
Из-за технического сходства своих звеньев эта цепь, конечно, легко перебрасывалась и через национальные границы; тут уж вообще стало выходить так, что писатели одного народа стали получать известность у другого вовсе не по своему действительному весу и значению, а по славе «изобретателей новых средств видения» и борцов «с мещанским болотом». Эти последние, приветствуя друг друга, обрели, таким образом, возможность ссылаться на «международное признание» своих заслуг и передавать эстафету все дальше, так что, можно сказать, только сейчас, оглядываясь на пространства, где дымили их факелы, мы с удивлением находим иную литературу, новаторскую на самом деле, добивавшуюся правды там, откуда она вырастает целиком, и оставленную убежавшими вперед поисками. Так, для журналов, читателей и критики стали вдруг всплывать в непредвиденном значении: в американской литературе – Фолкнер, Томас Вульф, Скотт Фицджеральд, Маргарет Митчелл и др.; у англичан – поэзия Томаса Харди, этого провинциала, на которого и взглянуть-то не хотелось во времена «трагических исканий», Т. С. Элиота, Э. Паунда и др. Из наших писателей нетрудно назвать Платонова, Пришвина, Неверова, Булгакова, Ив. Катаева. Запоздало и с потерями, но талант все-таки стал отвоевывать свои права у художественной синтетики.
Похоже, что к нашему времени экспериментальный метод достаточно раскрыл свои преимущества и угрозы. И литература стала относиться к нему осторожнее – особенно когда техника развила неограниченные возможности для дублирования готовых форм. Можно предположить, что современная Гертруда Стайн – столь же изысканная и бескомпромиссная в поиске новой, и только новой техники письма Натали Саррот – не найдет своего Хемингуэя.
Экспериментальной литературе, чтобы не остаться наедине с собой, придется, видно, перекочевать в квалифицированную, профессиональную критику – что она, кажется, и делает. Здесь умение этих писателей писать о литературе, а не литературу, получает определенное применение.
Во всяком случае, несмотря на усилившуюся как будто поддержку со стороны технических открытий нашего времени, экспериментальная литература как искусство не дает сколько-нибудь вдохновляющих примеров творчества. Как было сказано в литературном приложении к лондонской «Тайме», специально посвященном современному авангарду: «Движение во многом искусственное и напыщенное, заключающее в себе много механических повторений и давно известных вариаций; попытки раздробить язык, чтобы произвести непривычные для уха шумы и придумать новые способы расположения звуков на бумаге; упорное, но бесплодное одушевление техники в сочетании с нежеланием задуматься над действительным смыслом и объектом искусства – все это, нередко сопровождаемое дерзкими выходками, грандиозными, но идиотскими жестами, составляет главные особенности современного авангарда…
Это также симптом глубокой болезни искусства и литературы: своего рода нарциссический недуг, который подрывает самую возможность серьезного к ним отношения».