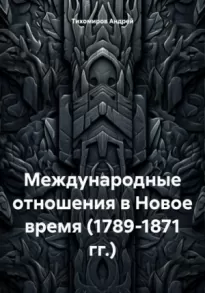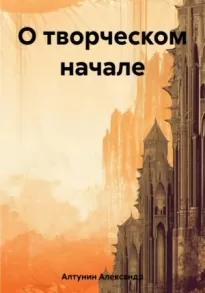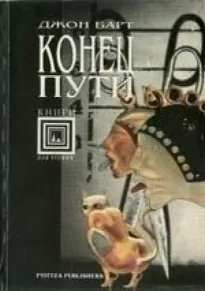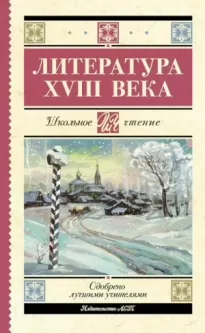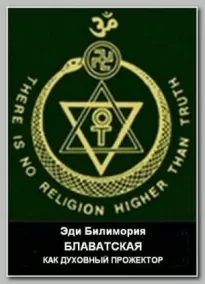Тирания Я: конец общего мира

- Автор: Эрик Саден
- Жанр: Публицистика / Социология
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Тирания Я: конец общего мира"
2. Facebook: капитализм и катарсис
Символ возник неожиданно. И занял относительно скромное место. Вначале мы плохо понимали, зачем он нужен. Зачем разработчики усердствуют, добавляя все новые функции? На наши экраны явился поднятый вверх большой палец, нам предлагалось при желании по нему кликнуть. Простое действие позволяло поставить знак одобрения под текстом или изображением в постах авторов, входящих в круг, которому мы симпатизируем. В 2009 году, когда платформа Facebook показывала экспоненциальный рост, ее руководители придумали инструмент, казавшийся безобидным, но он мог ускорить взлет и при этом еще прочнее привязать пользователей способом, о котором никто тогда и не подозревал. Эффект неожиданности вскоре сменился другим впечатлением: приятно, когда тó, что мы публикуем у себя на странице, оценили те, кто входит в список наших контактов. Новое чувство постепенно перешло в ликование: мы привнесли нечто такое, что квазимгновенно обрело публичную форму признания. Рассказ об отдельных более или менее личных эпизодах из жизни или периодическое обнародование собственного мнения довольно быстро возымели неотъемлемое последствие: мы поняли, что облекаемся значимостью, хотя даже не подозревали, что у других это может вызывать такой восторг.
Тогда, во времена финансового кризиса, сокращения рабочих часов, беспощадного менеджерского давления, большинство жило с чувством тревоги, неуверенности и даже потери самоуважения, а между тем уведомление на небесно-синей иконке и большой палец, которого нас удостоили, обладали даром утешения, приносили удовольствие и чуть ли не повышали самооценку. Устоять было невозможно. Лишь редкие герои-стоики, презревшие тщеславие, оставались безразличными к такому благословению свыше, – а точнее, из Кремниевой долины. Притягательность была велика, а сам способ добавлял нашим будням неожиданные и яркие краски: как тут остаться равнодушным – наоборот, надо пользоваться этим в свое удовольствие, чтобы реже сталкиваться с суровой реальностью, ведь пора в конце концов убедиться, что и наша скромная персона чего-то стоит, а существование дарит поводы для бурной радости. Тогда, на рубеже 2010-х годов, так называемый когнитивный капитализм, опиравшийся на отслеживание пользовательского поведения и монетизацию столь ценных информационных ресурсов в маркетинговых и коммерческих целях, преодолел существовавший порог и предстал в более замысловатой версии. Речь идет об аффективном капитализме, работающем на привлечение внимания методами лести, способными порождать определенную реакцию, которая должна постоянно воспроизводиться, а именно – чувство собственной значимости. Вот для чего сложился целый репертуар моделей поведения, практикуемых по всему миру, когда люди применяют различные стратегии, придумывая их на ходу, чтобы денно и нощно получать то, что приносит высшее удовольствие нашего времени – лайки.
Теперь, спустя десятилетие после того, как придумали «большой палец», можно вывести не претендующую на полноту типологию основных видов поведения, которые при каждой возможности должны удовлетворять «импульсивную потребность возвыситься в глазах других», – как говорил Фрейд (Geltungstrieb[81]). Главная категория объединяет наибольшее число пользователей и порождает чаще всего встречающиеся привычки – не случайно в нее входят пользовательницы и пользователи, которые каждый раз, переживая, по собственным ощущениям, нечто особенное, не могут этим не поделиться – обычно с помощью одной или нескольких фотографий и короткого комментария. Это может быть закат солнца на море, коктейль, смакуемый у края бассейна, селфи на фоне исторического памятника, ужин с друзьями или вкусный рецепт и блюдо, томящееся на кухне. На этих кадрах – «выстрелившие» моменты, но послевкусие от них будет менее ярким, если оставить в неведении окружающих. Не то чтобы это попытка вызвать зависть, но радоваться таким эпизодам немыслимо, не сообщив об этом целой толпе из списка контактов, иначе праздник частично будет испорчен. Зато радость еще полнее, когда знаешь, что о ней известно другим, ведь субъективный опыт накладывается на удовольствие от того, что эти минуты прожиты не впустую, их можно капитализировать и показать себя в выгодном свете без лишних затрат и почти ненароком.
Некоторые ввели строгий ритуал – как умывание или кофе по утрам: посты в ежедневном режиме с описанием событий или рассуждениями на тему дня. Это принесет нужную дозу дофамина от полученных лайков и цепочки комментариев: приятно и лестно знать, что пишут именно тебе, да и отвечать тоже, но как будто свысока, на правах автора, сказавшего первое слово. Такая практика укореняется, входит в привычку, и всем очевидно, что это потребность – иначе человек постепенно будет сникать. Но поскольку другие начинают вести себя во многом похоже, принцип теряет новизну. Не внове уже и потребность в признании, нуждающаяся в постоянной подпитке и зависящая от клика. Стоит ее удовлетворить, возникает мимолетное и такое воодушевляющее чувство, что ты – о счастье! – не такой, как все, и, как при наркотической зависимости, его снова и снова захочется испытать. Кто поспорит, что сегодня для многих это стало вопросом устойчивого душевного равновесия.
Есть и такие, кто, прочитав онлайн какую-нибудь статью, отвечающую или противоречащую их взглядам, тут же спешит ее «расшарить». С самого начала явлению, обозначенному английским глаголом share[82], в самый раз было бы стать предметом язвительной и ироничной критики: как будто скопировать ссылку – это щедрость, дар, принесенный людям. В этом случае важны не столько лайки, сколько реакция на текст. Происходит своего рода присвоение содержания, цель – напомнить ближним о собственных взглядах. Обычно в таких случаях убеждения скорее демонстрируют, чем претворяют в дела, таков рычаг мелко тщеславного воздействия на аудиторию, и ясно, что, в сущности, регулярное и конкретное включение в общественную жизнь требует гораздо больше энергии и заставляет быть скромнее. И напротив, когда обнародуешь свои взгляды посредством простого клика, получаешь двойную выгоду: почти никаких усилий – и тут же хватай награду, ничтожную, конечно, зато из раза в раз поддерживается имидж индивида, довольного собственной персоной.
Много и таких, кого перед лицом так или иначе негативного события – потопа в квартире, разрыва отношений, увольнения, а то и траура, или же, наоборот, весьма счастливого – свадьбы, рождения ребенка, получения диплома или хорошей должности, объединяет то, что они не представляют, как остаться с этим один на один, хоть в горе, хоть в радости. В описанных обстоятельствах аффект достигает такого уровня, что хочется еще. Таков мир саморекламы: если прожить все это внутри себя, сдержанно и скромно, будет чего-то не хватать, а именно окажется упущена возможность использовать печали и ликование для более насыщенной связи с себе подобными. Смысл – в безудержной массовой эмпатии, окружающей исключительно и всецело твою персону. В те минуты, когда тебя видят с глазами на мокром месте или с лучезарной улыбкой, ты в этом мире – почти король.
Наконец, есть особая категория, к которой принадлежит большинство. В нее входят те, кто интуитивно или на собственном опыте уяснил: чтобы собрать лайки, это высшее благо, нужно самому правильно, если не сказать – со знанием дела «лайкать» тех, кто «лайкает» вас. Так складывается «экономика лайка» – целая экономика погони за чувством собственной значимости. Для этого совершаются ежедневные лайк-обходы: так же как некоторые ходят по барам на какой-нибудь питейной улице, люди подглядывают за чужой жизнью, чтобы при случае, время от времени, как следует взвесив решение, даровать большой палец и спровоцировать получателя на ответный залп восхищения. Принесенное счастье – мощный импульс, хочешь его получать – умей и давать: именно эту форму описывает Марсель Мосс в «Очерке о даре»[83], говоря о «трех обязанностях» – давать, получать, возмещать. Как не бывает «безвозмездных» постов и каждый не столько распространяет информацию – какой бы она ни была, – сколько обозначает свое присутствие на сцене театра, в котором участники действия поочередно исполняют роли зрителей и актеров, так и лайки никто не ставит по простоте душевной, импульсивно: это вложение, залог будущего вознаграждения. Так что модели взаимодействия вписываются в строгую логику интересов. Каждый шаг совершается в перспективе выгоды: выходит – ничто не делается без задней мысли, от чистого сердца. Жак Деррида, исследуя эту проблему в книге «Презентация времени»[84], приходит к выводу, что дар никогда не преподносится с абсолютной незаинтересованностью, в известной мере обязательно имеет место ожидание чего-то взамен. Таким образом, дар как нечто производное от фигуры невозможного, так же как и лайк – казалось бы, детище полного и доброжелательного согласия, – обессмысливается внутри сферы, где индивиды ищут лишь повода представить себя перед зеркалом, в котором отражается их собственный возвеличивающийся образ.
В сущности, на протяжении 2010-х годов Facebook постепенно стал своеобразным «опенспейсом», пространством под открытым небом в масштабе всего мира, где каждый не щадит сил, стремясь ощутить свою важность, и отсюда – появление общественного дарвинизма в обновленном виде. Фактически это борьба за репутацию, в которой характер действий и полученные очки всегда отражены на экране: идет негласное и непримиримое соревнование – кому достанется больше наград от равных. Платформа поддерживает демократическую открытость и принцип уважения, но строго в рамках сравнительной логики: прозрачность для всех, кто вхож в общий круг. За такой моделью при ближайшем рассмотрении видно устройство современного менеджмента, основа которого – поощрение инициативы, демонстрации талантов с возможным вознаграждением в зависимости от исчисляемых показателей, ведь внутри этого механизма пользователей также побуждают чаще проявлять себя и подчеркивать собственную уникальность с помощью изощренных приемов. Хочешь получить лайк – нужна продуманная тактика, чтобы как можно лучше интегрироваться в систему и пользоваться всеми ее благами. Как если бы все более ожесточенные конкурентные игры в современном обществе, вдохновленном преимущественно неолиберализмом, частично воспроизводились в этих рамках и с непременной особенностью: здесь все должно выглядеть непринужденно, радостно, почти невинно, как будто всюду царит беспечный и вечный дух школьного лагеря. Конструкция умело выстроена разработчиками, которым прекрасно известно: чтобы раскрепостить пользователей для их более глубокого вовлечения и монетизации, нужна хорошая доза соперничества на основе соревновательных игр – тогда они будут вкладываться увлеченно и с отдачей.
Со временем, по мере обретения опыта, изначальное и, можно сказать, невинное удовольствие от полученных лайков превратится в растущую потребность утверждать себя через посты и получать повторяющиеся – и однотипные – знаки уважения: в этом было отличие социальных сетей от сложной и суровой обыденности и даже полная противоположность ей. Такая зарождающаяся форма коллективной булимии вошла в резонанс с растущим ожесточением эпохи – ее социальной невидимостью и всевозможными унижениями, которые многие испытывают в обычной жизни. И тогда устройство стало выполнять новую функцию: не просто обеспечивать всплеск удовольствия, а служить подобием протеза, способного вернуть уверенность, отличным тонизирующим средством, которое всегда под рукой, притом что сложность используемых механизмов и полная вовлеченность пользователей связывают его не с аффективным капитализмом, а с катарсисом. Вероятно, речь идет о единственном истинном примере «нематериальной» экономики, ведь опора здесь исключительно на психологические пружины, а задача – врачевать раны, не пытаясь по примеру общества потребления производить товары и вызывать удовлетворение актом покупки, но с помощью специальных индивидуализированных систем внушая чувство, что ты теперь занимаешь в социуме иное место, переходишь в «высшую категорию» внутри реальности, которой можно пользоваться по полной, примеряя к себе нескончаемое торжество реванша.