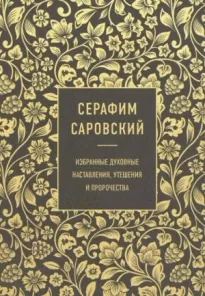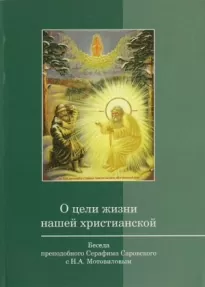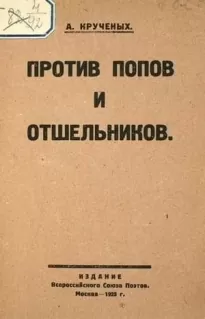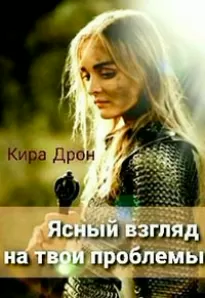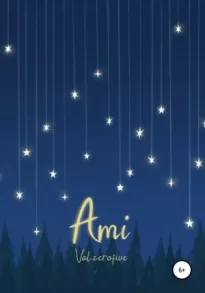Преподобный Серафим Саровский. Духовные наставления и пророчества
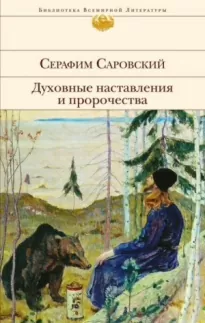
- Автор: Издательство «Эксмо»
- Жанр: Религия / Христианство / Православие / Религия и духовность: прочее
- Дата выхода: 2018
Читать книгу "Преподобный Серафим Саровский. Духовные наставления и пророчества"
Старице Евдокии Ефремовне, впоследствии монахине Евпраксии, удостоившейся с о. Серафимом посещения и видения Матери Божией в день Благовещения, батюшка так говорил (Летопись, тетрадь № 4): «Теперь будете скорбеть да скорбеть, никакой отрады, а после зато, как Господь мощи-то откроет, радость будет великая!»
Мы привели здесь все эти показания покойных сестер, ввиду существующего разногласия о предсказаниях о. Серафима насчет открытия мощей матери Александры и чтобы охарактеризовать этот почему-то спорный вопрос.
Из беседы о. Серафима с о. Василием Садовским в 1826 году, находящейся в записках последнего, явствует, что батюшка лично желал назначить начальницей своей мельничной обители Елену Васильевну Мантурову. Так, перед постройкой своим девушкам «мельницы-питательницы», как всегда выражался старец, призвал он священника о. Василия, который застал о. Серафима сидящим у своего источника грустным, скорбным. Вздыхая, батюшка произнес: «Старушка-то (то есть матушка Ксения Михайловна) у нас плоха! Кого бы нам вместо нее-то, батюшка?!» — «Кого уже вы благословите…» — ответил недоумевающий о. Василий. «Нет, ты как думаешь?! — переспросил старец. — Кого? Елену Васильевну или Ирину Прокопьевну?» Но о. Василий и на этот вторичный вопрос батюшки ответил: «Как вы благословите, батюшка». «Вот то-то, я и думаю Елену-то Васильевну, батюшка; она ведь словесная! Вот потому я и призвал тебя. Так ступай-ка ты да и присылай ее ко мне», — сказал о. Серафим.
Когда к нему пришла Елена Васильевна, батюшка в восторге объявил ей, что она должна быть начальницей его обители. «Радость моя! — сказал о. Серафим. — Когда тебя сделают начальницей, то тогда, матушка, праздник будет великий и радость у вас будет велия! Царская Фамилия вас посетит, матушка!» Елена Васильевна страшно смутилась. «Нет, не могу я этого, батюшка! — ответила она прямо. — Всегда и во всем слушалась я вас, но в этом не могу! Лучше прикажите мне умереть, вот здесь, сейчас, у ног ваших, но начальницей — не желаю и не могу я быть, батюшка!»
Несмотря на это, о. Серафим впоследствии, когда устроилась мельница и он перевел в нее семь первых девушек, приказал во всем им благословляться и относиться к Елене Васильевне — начальнице их, хотя она так и осталась до самой смерти своей жить в Казанско-церковной общинке. Это до такой степени смущало юную подвижницу, что даже и перед смертью своей она твердила, как бы в испуге: «Нет, нет, как угодно батюшке, а в этом не могу я его слушаться; что я за начальница! Не знаю, как буду отвечать за свою душу, а тут еще отвечать за другие! Нет, нет, да простит мне батюшка, и послушать его в этом никак не могу!» Однако о. Серафим все время поручал ей всех присылаемых им сестер и, говоря о ней, называл всегда «Госпожа ваша! Начальница!». Вообще начальствование Елены Васильевны было и осталось загадочным и непонятным, так как вскоре она чудесно скончалась.
Теперь вернемся к ближайшей пустынке великого старца. Летом 1826 года, по желанию старца, богословский родник был возобновлен. Накат, закрывавший бассейн, был снят; сделан новый сруб с трубою для истока воды. Около бассейна старец стал теперь заниматься телесными трудами. Собирая в реке Саровке камешки, он выкидывал их на берег и ими унизывал бассейн родника. Устроил здесь для себя гряды, удобривал их мхом, садил лук и картофель. Старец избрал себе это место потому, что по болезни не мог ходить в прежнюю свою келью за шесть верст от монастыря. Даже затруднительно становилось ему после утренних трудов на ногах посещать для отдохновения в полуденное время келью о. Дорофея, которая стояла от родника всего на четверть версты. Для о. Серафима устроен был на берегу горы, подле родника, новый небольшой сруб, вышиною в три аршина, длиной в три и шириной в два. Сверху его накрывал скат на одну сторону. Не было в нем ни окон, ни двери. Вход же в этот срубец открыт был земляной, со стороны горы, под стенкой. Подлезши под стенку, старец отдыхал в этом убежище после трудов, скрываясь от полуденного зноя. Потом, в 1827 году, здесь же, на горке около родника, ему поставили новую келью с дверями, но без окон; внутри нее была печь, совне сколочены сенцы из досок. В течение 1825–1826 годов старец ежедневно хаживал к этому месту. А когда устроили ему келью, он начал уже постоянно проводить все дни здесь, в пустыни; вечером возвращался в обитель. Идя в обитель и из обители в обыкновенном белом ветхом холщовом балахоне, в убогой камилавке, с топором или мотыгою в руках, он носил за плечами суму, грузно наполненную камнями и песком, в которой лежало и св. Евангелие. Некоторые спрашивали: «Для чего он это делает?» Он отвечал словами св. Ефрема Сирина: «Я томлю томящего мя». Место это известно с тех пор под именем ближней пустыни о. Серафима, а родник стали называть колодцем о. Серафима.
Ксения Васильевна Путкова рассказывает следующее об этой пустынке (тетрадь № 6, рассказ № 32): «И вот еще как задолго предсказал мне наш родименький батюшка, что пустынка-то его наша будет, к нам отойдет! Пришла я к нему в Саров и в самое то время, как усердием верующих ему строилась эта вот пустынка его. Посадил он меня возле и сам сел, и много-много говорил мне назидательно о кротости, смирении и любви, как должны мы любить его, и кто так будет поступать, тот всегда с ним будет; потом и говорит: «Я тебя к себе возьму! Вот смотри-ка, радость моя, ведь эта вот пустынка нам с тобою строится; ведь она у вас будет, пустынка-то, и будем мы жить, как Авраам и Мария!» А я, по молодости лет не понимая ничего, смеючись, просто говорю батюшке: «А я возьму да и уйду от вас, как Мария-то от Авраамия». «Нет, — отвечает, — радость моя, нет тебе дороги уйти-то: Авраам да Мария жили во притворе, а я тебя внутрь себя возьму! Ты и не уйдешь, матушка!» Уж много лет после, когда привезли нам пустынку, уразумела я слова баюшки; ведь всегда я была с ним духом и не могла уже уйти из обители».
Со времени построения новой кельи, в 1827 году, деятельность и труды о. Серафима постоянно разделены были между двумя местностями: обитель и ближняя пустынь были попеременно его поприщем.
В монастыре он оставался по воскресным и праздничным дням, причащаясь за ранней литургией в больничной церкви Св. Тайн. В будни же он почти ежедневно ходил в лес в ближнюю пустынь. В монастыре он проводил ночи. На день же, с четырех, даже с двух часов ночи, удалялся в ближнюю пустынь, провождая в ней время до семи или восьми часов пополудни. Число посетителей его весьма увеличилось. Одни дожидались его в монастыре, жаждая увидеть его, принять благословение и услышать слово назидания; другие приходили к нему в пустынную келью. Старцу, ослабевшему в силах, было тяжело простирать деятельность свою на огромную массу людей. Чтобы сократить число посетителей и не развлекаться от собеседований, о. Серафим в начале поселения в ближайшей пустыни причащался Св. Тайн, как и во время затвора, в своей келье. Некоторых стало соблазнять это обстоятельство. Как, в самом деле, старец ходит в пустынь за две слишком версты от монастыря, а Св. Тайн причащается в келье? Но соблазняться было нечем… Старец продолжал причащаться в келье потому, собственно, чтобы избегнуть многочисленных посетителей, которых еще не в силах был принимать к себе. Однако же, для предотвращения соблазна немощных в совести, от епископа Тамбовского последовало предложение, чтобы старец Серафим сам приходил в церковь для причащения Св. Тайн. Услышавши о таком распоряжении, он сказал, что не оставит причащаться Св. Тайн, хотя бы пришлось для этого ходить на коленях, и распоряжение архиерея принял со смирением. Но, кажется, это было распоряжением свыше земной власти с целью короче сблизить старца с нуждами верующих. Ибо когда о. Серафим стал ходить в больничную церковь к ранней литургии, то число усердствующих к нему возросло до огромной цифры. Старец почти не имел покоя ни в пустыни, ни на дороге, ни в монастыре. Строитель Нифонт, любивший старца Серафима, о множестве посетителей говаривал, бывало, так: «Когда о. Серафим жил в пустыни (первой и дальней), то закрыл все входы к себе деревьями, чтобы народ не ходил; а теперь стал принимать к себе всех, так что мне до полуночи нет возможности закрыть ворот монастырских».
Умилительно было видеть, как старец, после причастия Св. Тайн, возвращался из церкви в свою келью. Он шел в мантии, епитрахили и поручах, как обыкновенно приступал к таинству. Шествие его было медленно от множества толпившегося народа, из среды которого всякий силился хотя слегка взглянуть на старца. Но он в это время ни с кем не говорил, никого не благословлял и как бы ни души не видал вокруг себя: взор его был потуплен долу, а ум погружен внутрь себя. В эти минуты он входил своею душою в размышление о великих благодеяниях Божиих, явленных людям таинством св. Причащения. И благоговея к чудному старцу, никто не смел даже прикоснуться к нему. Пришедши в свою келью, он уже всех усердствующих принимал к себе, благословлял, а желающим предлагал и душеспасительное слово.
Не менее умилительно было видеть этого смиренного, седовласого, сгорбленного старца, подпиравшегося мотыгой или топором, в пустыни за рубкой дров, возделыванием гряд, в убогой камилавке, в белом балахоне, с известной уже нам сумой за плечами.
Но всего более усладительна была его беседа. Ум у о. Серафима был светлый, память твердая, взгляд истинно христианский, сердце для всех доступное, воля непреклонная, дар слова живой и обильный. Речь его была столь действенна, что слушатель получал от нее душевную пользу. Беседы его были исполнены духом смирения, согревали сердце, снимали с очей как бы некоторую завесу, озаряли умы собеседников светом духовного разумения, приводили их в чувство раскаяния и возбуждали решительную перемену к лучшему, невольно покоряли себе волю и сердце других, разливали в них мир и тишину. Как собственные действия свои, так и свои слова старец Серафим основывал на слове Божием, подтверждая их наиболее местами Нового Завета, на писаниях св. отцов и на примерах святых, Богу благоугодивших. Все сие потому еще имело особенную силу, что прямо прилагалось к потребностям слушателей. По чистоте духа своего он имел дар прозорливости; иным, прежде раскрытия обстоятельств, давал наставления, относившиеся прямо ко внутренним их чувствам и мыслям сердечным.
Впрочем, старец, украшенный высокой духовной опытностью, наблюдал известные правила в раскрытии пред другими своих благодатных дарований. Правила сии изложены им в наставлении: о хранении познанных истин.
«Не должно, — говорил он, — без нужды другому открывать сердца своего; из тысячи найти можно только одного, который бы сохранил свою тайну. Когда мы сами не сохраним ее в себе, как можем надеяться, что она может быть сохранена другим?
С человеком душевным надобно говорить о человеческих вещах; с человеком же, имеющим разум духовный, надобно говорить о небесных.
Исполненные духовной мудростью люди рассуждают о духе какого-либо человека по Священному Писанию, смотря, сообразны ли слова его с волею Божиею, и по тому делают о нем заключение.
Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не должно, особенно когда в них не примечается и желания к слушанию.