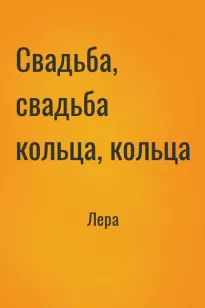Отрицательная Жизель

- Автор: Наталья Баранская
- Жанр: Детская проза / Советская проза
- Дата выхода: 1977
Читать книгу "Отрицательная Жизель"
Проглотив слезы, Любка сощурила глаза и вздернула подбородок. Так вот же — не будет она плакать! Не перед кем ей здесь плакать.
Протянула руку девушка в красной шапочке. То не хотела говорить, то надумала. А она и сама не понимала, что ее подняло. Она уже давно обдумала все, ради чего пришла. На главный вопрос она ответила: Сапожникова не такая, как говорят. В научном смысле — нет, просто распущенный, несобранный человек.
Она вот, Женя Горностаева, собранная, а та наоборот. Но сейчас закипели другие мысли, закипели и подняли ее.
— Я считаю, — сказала Женя твердо, — что человек вправе распоряжаться своей судьбой как хочет. Конечно, нельзя мешать окружающим, с этим я согласна. Ну а вредить людям? А губить их — можно? Двое взрослых мужчин, — девушка взглянула на Вырепенникова, потом на Ступаняна, — кричали здесь: «Выбросить, выселить!» Как вы можете так? И почему двух здоровущих парней, ваших сыновей, надо спасать от Сапожниковой, а не ее от них?
И прежде чем сесть, девушка сердито уставилась на Ступаняна.
«Умница!» — сказал кто-то из публики. И тут же кто-то ответил: «Подружка!»
«Вот какая дрянь, а еще хорошенькая», — подумал Ступанян, который успел уже заметить девушку с милой ямочкой на подбородке.
Что Любке стало страшно, что она заморгала, пересиливая слезы, и дрогнули ее губы — увидели немногие, хотя смотрели на нее все. Увидели те, кто, слушая Ступаняна, подумал с тревогой: ой, пропадет, пропадет девчонка!
Среди этих немногих был Миша Конников, был и Заломин.
Только он поднялся, чтобы сказать свое слово, а затем объявить перерыв, как из средних рядов встала запеленатая в черный платок старушка.
— Дайте-ка я скажу, — она отерла рот пальцами. — Хорошая она девушка, Люба, каб не гулящая…
Засмеялись, обрадовались шутке. Но старушка и не думала шутить. Она продолжала:
— Добрая она — правда. Подрослая уже была девочка, а все, бывало, над моим окном на прыгалках скачет — чирк-чирк, чирк-чирк. Мы еще тогда из подвала непереселенные были. Я ей говорю: «Дочка, ты мне последнее солнышко застишь — отойди в сторонку, я, — говорю, — болею». Она отошла, а потом мне веточку принесла тополевую. А я ей: «На что мне ветка, ты бы лучше в молочную сходила — две бутылки сдашь, бутылку молочка принесешь». Она сходила. Я говорю ей: «Вот и спасибо, вот и будешь моей Тимуркой». А она мне — вот даже упомнила: «Я Тимуркой не хочу, я буду ваша Фая…»
— Не Фая, а фея, — Любка улыбнулась далеким теплым дням, из которых вдруг возникла эта старушка. — Это в сказке — фея.
— А по мне, называйся как хошь… И стала она мне в магазин бегать, покуда я не поправилась. Так что хорошая она девушка — запишите там, где надо. А уж если случилось с тобой, дочка, ты возьми да и направься. Извиняйте, коли что не так сказала.
Старушка поклонилась степенно и села.
— Пора нам кончать, товарищи, — Заломин поднялся. — Прежде чем суд уйдет на совещание, а у вас будет перерыв, разрешите сказать мне.
Заломин теперь знал о Любкиной жизни и о самой Любке больше, чем до суда. Девочка росла без всякого воспитания, даже без надзора. Мать была беспечна и безответственна. Не боролась за свою ученицу школа. Безучастны были и окружающие, в том числе и соседи. Они ведь больше других знали о семейных условиях Сапожниковых, однако не ставили своевременно вопроса о положении ребенка. Конечно, более всех виновата мать. Но теперь, когда дочь стала совершеннолетней, спрашивать приходится с нее. Пришла пора ей самой отвечать за свои поступки.
— Совершеннолетие делает человека полноправным членом нашего общества, — продолжал Заломин. — Наше общество предоставляет всем равные права, обеспечивает условия для нормальной, разумной жизни, но оно и спрашивает с каждого члена, долг которого трудиться на общее благо, жить достойно и честно, не мешать окружающим, не быть эгоистичным.
Хотелось бы послушать, что скажет нам теперь Люба Сапожникова. От ее отношения ко всему услышанному здесь, от того, что она усвоила и какие выводы сделала для себя, зависит отчасти и то, как отнесется к ней суд.
Заломин сел, недовольный собой. Как это получается — думаешь про себя и слова находишь самые нужные, шершавые, колючие, но зато цепкие, сильные. А встанешь — заговоришь ровно, гладко, готовыми словами, как все равно радио. И мысли правильные, не скажешь, что плохие мысли, а слова, обкатанные до лоска, не задевают, за душу не берут.
Заломин кивнул Любке — слушаем тебя.
Любка не знала, что говорить. Хорошо тем, кто имеет практику выступать. А ей лучше бы спеть. Она поднялась неохотно. Ну что она усвоила? Какие там выводы? Не вывела она еще выводов, не знает, что усвоила. Плохо ей. Плохо и страшно. И за себя и за мать. Тут только увидела — ой, как с матерью плохо.
— Не умею я говорить, — сказала Любка Заломину сердито.
— Вы мешаете жить своим соседям, неужели вам это непонятно? — выскочила Федорчук. — От вас ждут ответа — прекратите ли вы свои вечеринки, все эти ваши безобразия в квартире, дадите ли пожилым людям покой? Могла бы также извиниться перед соседями…
— Нужны нам ее извинения, — прошипел Вырепенников.
— Извинения мои им не нужны, — сказала Любка. — Ну а шуметь больше не будем… позже двенадцати. И ничего такого… плохого в квартире тоже не будет.
— А выпивать ты бросишь, скажи? — крикнул мужской голос из зала.
— А выпивать… — не знаю. Обещать не могу. Мать у меня пьет…
— Ага! — крикнул кто-то, ликуя.
Заломин постучал по столу и встал сердитый. Плохо выступила Сапожникова. Лучше б молчала. Не понимает ничего или строит из себя дурочку. Он объявил перерыв, и члены суда ушли через боковую дверь в маленькую комнату — на совещание.
Публика зашевелилась, поднялась, зашумела — двинулась двумя потоками. Один, большой, направился к выходу — старые люди устали, пора было ужинать, спать. А что постановят, то и завтра узнается. А малый поток поплыл к сцене, на ближние места. С задней скамейки поднялись — размяться, пошуметь, перекинуться с Любкой шутливым словом.
Любка поднялась, потянулась по-кошачьи, незаметным движением выгнув спину. Тихонько тряхнула мать за плечо, пошла в глубь сцены.
Михаилу тоже хотелось подойти к Любке, он сделал несколько шагов, еще раздумывая, идти, не идти, а когда поднял голову, увидал на сцене одну Прасковью Егоровну. Любка исчезла.
Любка заметила за фанерной кулисой проход, скользнула в него и очутилась в каком-то закутке со столом, заваленным обрезками картона, заляпанным клеем и краской. На столе стояла консервная банка, полная окурков, рядом лежал коробок спичек. Любка присела на край стола — хотелось уйти с глаз, побыть одной. Сидела, качала ногой, мысли расползались в стороны, да и не мысли это были, а так, пустяки.
Любка пошарила в банке, выбрала окурок побольше, перебрала обгорелые спички, нашла целую, чиркнула, потянула раз-другой и стала тихонечко пускать дым.
Хорошо бы умотаться куда-нибудь. Далеко. Только не в холодные, а в теплые края, к морю. Может, на Дальний Восток? На самый дальний. А еще лучше в Японию. В Японии она станет работать гейшей: петь, танцевать, играть. Эти, здесь, и не знают, как она танцует… Как умеет дрожать плечами и грудью в «Цыганочке» или ловко переставлять голову из стороны в сторону в индийском танце… Она представила японок с узкими глазами, высокими прическами, пестрых, как бабочки, в своих нарядных забавных халатах. А кругом маленькие деревца, цветы, домики как игрушки. Сидишь в таком домике и машешь веером для прохлады… Все это Любка видела в старых журналах, которые ворохом лежали у них в чулане при кухне еще от прежних времен, когда у Розы Иосифовны был зубоврачебный кабинет. Любка брала их пачками к себе в комнату и рассматривала, вдыхая запах пыли и пересохшей бумаги.
Но нет, уехать она никуда не может. Как она оставит мать? Кто же будет раздевать ее и укладывать ночью, когда прибредет она из своей шашлычной? Там в конце смены, к двенадцати, убирая весь день вороха грязной посуды, успеет она набрать из недопитых рюмок и стаканов полную порцию. Все там будет — водка, пиво, коньяк, шампанское, кахетинское, крепкое, кислое, сладкое — всесоюзный коктейль, или по-русски — ерш.
Нет, не может Любка бросить мать. Здесь бранили Прасковью, смеялись над ней. Любкино сердце защемила обида. Разве она плохая? Никогда мать не обижала Любку, не ругала, не кричала, не наказывала ее. Один только раз случилось. Один-единственный.
Ей было лет восемь. Зимой это было. Наступил уже вечер. Любка кончила уроки, собрала портфель, возилась в углу с куклами. Прасковья причесалась, надела капроновую блузку, туфли на каблуках. Любка уже знала, что это значит, но все надеялась, что мать не отправит ее гулять, замерла в своем углу, даже с куклой говорила молча, про себя. Во дворе в этот час да еще в мороз никто не гуляет. И Любке очень не хотелось идти.
А мать уже говорит: «Одевайся, Любочка, иди погуляй на воздухе!» Любка будто не слыхала. Мать принесла ее вещи — шубку, капор. Стала ее одевать. Люба стояла как неживая — рукой не шевельнет. И молчит. Мать стала сердиться, дергать ее, трепать. Люба набычилась, а потом нарочно обмякла, чтобы ее не одеть было. Мать силком ее в одежду запихала, только застегнуть не успела. Тут и пришел дядька в меховой куртке, вытащил из кармана бутылку, обернутую в бумагу, стукнул об стол. Спросил: «А это кто, дочка? Дочке — конфетку». Развернул кулек, достал конфету в яркой бумажке. Но Любка надулась и конфету не взяла. «Ничего, потом», — сказала мать и вытолкала ее на лестницу.
Детей во дворе не было. Любка стояла на снегу и смотрела на светящиеся окна. За окнами горели лампы под оранжевыми и голубыми абажурами, под стеклянными колпаками. На подоконниках зеленели цветы, стояли кастрюли и бутылки с молоком. За окнами шла своя молчаливая жизнь: то подходили к окну, то уходили в глубь комнат мужчины, женщины, дети. Там, в доме, жили матери, бабушки, даже отцы. Им было тепло. А ей холодно. Мамка не пожалела ее — выгнала на мороз! Она набрала варежкой снег с карниза и стала потихоньку лизать. Снег был старый, невкусный, отдавал городской копотью, пылью. Любка лизала снег и хотела простудиться.
— Девочка, ты же простудишься! — сказала женщина с мусорным ведром в руке. — Что ты делаешь? Уже десятый час, иди домой!
— Я не хочу, — сказала Любка, — у мамы дядька. Ну его, этого дядьку.
Женщина помолчала, разглядывая Любку.
— Ну, тогда пойдем ко мне. Я тебе чаю дам с печеньем — согреешься.
Любка кивнула и пошла за ней. Женщина была из другого подъезда, соседнего. В очках. Похожа на эту, что сидела тут рядом с председателем.
Соседка усадила Любочку за стол, налила чаю, положила три куска сахару и пододвинула вазочку с печеньем. А сама села напротив. Люба пила чай, причмокивая и пыхтя. А соседка расспрашивала ее, где работает мама, часто ли бывают у них гости и часто ли мама отправляет Любу гулять по вечерам.
Любе стало тепло, хорошо, чай был горячий и сладкий, печенья много. Хозяйка разговаривала с ней, как с большой, как с гостьей. Любе нравилось быть в гостях: ее спрашивают, ее слушают. На мамку не сердилась. А доброй тетеньке хотелось понравиться. И Люба рассказывала пострашней. Хозяйка ахала, охала, всплескивала руками. И чем больше пугалась она, тем больше старалась Любка.