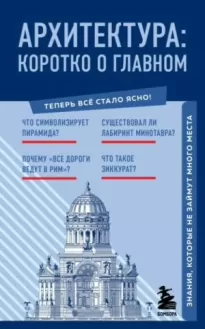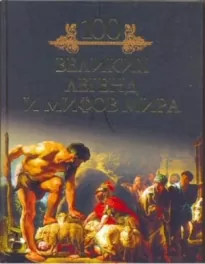Ныряльщик из Пестума. Юность, эрос и море в Древней Греции

- Автор: Тонио Хёльшер
- Жанр: Культурология / История: прочее
Читать книгу "Ныряльщик из Пестума. Юность, эрос и море в Древней Греции"
2. Эсхатология или быт?
Интерпретация росписей в Гробнице ныряльщика в контексте погребальной символики или эсхатологии, связанной с орфическими, пифагорейскими или дионисийскими мистериями, была высказана Napoli M. (1970) кратко и почти без аргументов. Двенадцатью годами позже Greco E. (1982) писал о «символических изображениях, относительно которых никто не сомневается, что они самым непосредственным образом связаны с ритуалами и верованиями, а также представлениями о смерти». Более подробное обоснование предлагают D’Agostino B. (1982); (1999); Cerchiai L. (1987); Otto B. (1990), Guzzo P. G. (1991); Bottini A. (1992); Ampolo C. (1993); Warland D. (1996); Robinson E. G. D. (2010). В целом эсхатологическая интерпретация на сегодняшний день преобладает, см. обзор М. Оддо в Zuchtriegel G. (2018). Отдельные голоса в пользу связи с реальной жизнью, как правило, отвергаются без всякой аргументации, см. в особенности Cagiano de Azevedo M. (1972); Murray O. (1988); Cerchiai L. Culti dionisiaci e rituali funerary //Atti del XLIX Convegno di Studi sulla Magna Grecia. 2011. P. 493–494, со ссылкой на Жан-Пьера Вернана.
Об античных мистериальных религиях мы знаем очень мало, поскольку их участники давали клятву неразглашения. Обзорная литература: Burkert W. Ancient Mystery Cults. 1987; Bremmer J. N. Initiation into the Mysteries of the Ancient World. 2014. P. 55–80. Буркерт показывает, что античные мистериальные религии обещали прежде всего счастье и защиту от несчастья в земной жизни. Свидетельств о чаянии загробного блаженства практически не встречается до V века до нашей эры; они появляются начиная с IV века до нашей эры и значительно учащаются в позднеримское время как языческий ответ на христианские ожидания потусторонней жизни. См.: Bremmer J. N. P. 27–34, 82–83.
Основы антиклассицистической, иррациональной интерпретации греческой культуры были заложены в XIX столетии, прежде всего Якобом Буркхардтом в Истории греческой культуры (лекции, опубликованные посмертно в 1898–1902 годах), Фридрихом Ницше в Рождении трагедии из духа музыки (1872) и Эрвином Роде в Психее (1890–1894). В ХХ веке эту интерпретацию с культурно-антропологической точки зрения вновь поднял на щит Вальтер Буркерт (Burkert W. Homo necans (1972); Gewalt und Opfer (2010)).
О погребальной культуре Греции и Великой Греции см.: Kurtz D.C., Boardman J. Greek Burial Customs. 1971. О значении социальных ролей см.: Morris I. Burial and Ancient Society. 1987; Morris I. Death-Ritual and Social Structure in Classical Antiquity. 1992; Hölscher F. Die Bedeutung archaischer Tierkampfbilder. 1972; Bergemann J. Demos und Thanatos. 1997; Graepler D. Tonfiguren im Grab. 1997; Hoffmann A. Grabritual und Gesellschaft. 2002.
В надгробных эпиграммах говорится чаще всего о прозябании теней в Аиде или об окончательности и бесповоротности смерти. Если же в них встречается представление о блаженной жизни в прекрасном потустороннем мире, то, как правило, проводится различение между телом, полагаемым в гробницу, и душой, которая переселяется на небеса, на Елисейские поля или на Острова блаженных. Представление о жизни души во всех этих райских обителях всегда остается расплывчатым и не конкретизируется в представление о пирах или иных наслаждениях, см.: Lattimore R. Themes in Greek and Latin Epitaphs. 1962, особенно c. 21–55. Эсхатологические толкования греческого погребального искусства уже довольно давно почти не встречаются в серьезных научных исследованиях. Зато сюжеты этрусских погребальных росписей VI–IV веков до нашей эры со всей определенностью интерпретировались как представления о потустороннем мире: Torelli M. (1997), особенно c. 122–151. На мой взгляд, эта проблема требует дальнейшего обсуждения.
Гёте выразил свое понимание искусства греческих надгробий в первой из Венецианских эпиграмм: «Жизнь украшает твои гробницы и урны, язычник» и несколькими строками ниже: «Верх над смертью берет избыток жизни – и мнится: / К ней причастен и прах, спящий в могильной тиши» (пер. С. Ошерова).
Эсхатологические интерпретации Гробницы ныряльщика основаны – эксплицитно или имплицитно – на убеждении, что «только» (или «просто» – без уничижительного наречия, как правило, не обходится) «жизненное» толкование не может быть верным, а потому для этих росписей нужно предполагать трансцендентный, мистический, «эсхатологический» смысл – который, в свою очередь, именуется «символическим» или «метафорическим» без четкого различения между тем и другим.
При этом окружающая человека жизнь понимается как «тривиальная» реальность, состоящая из «незначительных» повседневных занятий и «анекдотических» биографических эпизодов и в принципе неспособная быть темой высокого искусства. Эта чрезвычайно общая антитеза в отсутствие более или менее определенных сведений об античных мистериях позволяет использовать для истолкования росписей далеко идущие ассоциации с самыми разнообразными религиозными мотивами. Прыжок в море становится метафорой ритуалов и практик «перехода» от юности к статусу взрослого и в то же время от рациональной жизни к иррациональному блаженству и, наконец, из земного мира в потусторонний. Море становится метафорой прохождения через темную фазу полового созревания и в то же время символом опьянения или смерти, и так далее и тому подобное. Я не хотел бы пускаться здесь в рассуждения о том, насколько все эти феномены на антропологическом уровне связаны между собой. Для убедительного понимания фрески как прыжка из жизни в смерть, которое претендовало бы на большее, нежели подтверждение собственных предрассудков исследователя, все эти идеи недостаточно конкретны. Проницательные интерпретации Cerchiai L. (1987) и D’Agostino B. (1999) остаются верны и в том случае, если мы видим в ныряльщике изображение не смерти, а существующих в земной действительности ритуалов инициации.
В реальной жизни, как и в воображаемой действительности мифа, встречались различные поводы прыгнуть или быть сброшенным со скалы в море. В дискуссиях о Пестумском ныряльщике большую роль играют белые Левкадские скалы, означавшие на западном «краю света» пограничную ситуацию между жизнью и смертью, см.: Nagy G. Phaeton, Sappho’s Phaon, and the White Rock of Leukas // Harvard Studies in Classical Philology 77. 1973. P. 137–177; Warland D. (1998) P. 279–281. Несчастные в любви, известен пример Сафо, согласно легенде, бросались с этих скал в море, чтобы погибнуть или избавиться от неразделенного чувства; преступников сбрасывали в море, чтобы божий суд вынес решение, жить им или умереть. Привлекалась для истолкования Гробницы ныряльщика и легенда об Арионе, которого корабельщики заставили прыгнуть с судна в море, где его подхватил и спас дельфин. Однако объединять все эти прыжки и падения в море в общую концепцию, а затем возводить ее к мифологическим архетипам – довольно бессмысленное занятие, независимо от того, видят ли в них космические символы восхода и заката солнца или метафоры смерти и воскресения в потустороннем мире. Во всех сохранившихся источниках всегда идет речь о конкретной гибели или спасении и никогда – о новом посмертном существовании. И как ни крути – невозможно представить себе несчастного любовника, бросающегося в море путем безукоризненно исполненного прыжка вперед головой.
Встречающиеся в письменных источниках упоминания о «погружении» в связи со смертью, как, например, Ферекрат, фрагмент 113, см.: Ampolo C. (1983), представляют из себя сравнения: они описывают непередаваемый опыт смерти через жизненный опыт, но не ставят между ними знак равенства, как это делает символ.
Что до Пестумского ныряльщика, эсхатологическая интерпретация наталкивается и на конкретные иконографические препятствия. Так, душу умершего изображали в эту эпоху не в виде обычного человека, а как маленькую женскую фигурку (Психею) в ниспадающем платье и с крыльями: Stähler K. P. Grab und Psyche des Patroklos. 1967. Объяснение вышки как входа в Аид было убедительно опровергнуто Ermini A. (1994). Warland D. (1998) необъяснимым образом считает позу ныряльщика неестественной и потому символической. Ему стоило бы набрать в поисковой строке интернета «Прыжок в воду. Картинки». Тот факт, что художник на этой фреске сосредоточился исключительно на фигуре ныряльщика, нередко толковался как «одиночество» последнего или даже его «отрешенность от мира», как у Otto B. (1990) P. 266.
Изображенное на фреске сооружение, напоминающее башню, Наполи – несомненно, правильно – интерпретировал как вышку для прыжков в воду; выступающая платформа ни для чего иного служить не может; другие предлагавшиеся толкования, такие как Геркулесовы столпы или врата Аида (впервые Bianchi Bandinelli R. 1970–1971), заставляют предполагать, что ныряльщик летит в воду рядом с этим сооружением с неопределенной высоты, причем точка, откуда он прыгнул, зрителю не видна. Но вышка и ныряльщик пространственно явно связаны, что делает такие предположения неубедительными. Наполи предложил также несколько схем, объясняющих конкретную форму вышки, которую он представлял себе построенной из каменных квадров; однако ни одна из этих схем не убеждает. Slater W. J. (1976) увидел на фреске что-то вроде гимнастической лестницы с платформой наверху, Фолькер Михаэль Строка в устной беседе предположил, что это может быть деревянное сооружение вроде охотничьей вышки. Против этого предположения говорит черная краска, в отличие от коричневой, которой нарисованы деревья; она указывает скорее на камень. Кроме того, Ингрид Краускопф указала мне на то, что в деревянной постройке следовало бы ожидать распорок под косым углом. Точного объяснения у нас пока нет.
В целом истолкование моря как сферы очищения и освобождения души для блаженной жизни после смерти звучит очень по-христиански. Если в Античности море соотносилось со смертью, то речь всегда шла об опасности и гибели, без представлений о возрождении: Georgoudi S. La mer, la mort et le discours des épigrammes funéraires //Annali di Archeologia e Storia antica 10. 1988. P. 53–61. Симпосий получал в рамках эсхатологической интерпретации различные истолкования. Наполи понимал его как сцену земной жизни, откуда на западной стене один из участников пира со своими спутниками отправляется в потусторонний мир. Однако приветственный жест идущего посередине юноши и отвечающий ему пригласительный жест первого симпосиаста на северной стене однозначно указывают на прибытие на пир нового гостя. Представить себе уход с веселого пира в потусторонний мир как конкретное событие довольно трудно. Что до аллегорического толкования, где симпосий означал бы «жизнь», а уход одного из пирующих – его «смерть», то мне ни одного примера подобной аллегорезы в античной литературе не известно. Некоторые исследовательницы и исследователи понимают симпосий как пир в загробном царстве. Recigno C. (2017) даже приходит к удивительному – принимая во внимание пару справа на северной стене – выводу, что эротика на этой фреске «очищена от телесного аспекта».
В особенности яйцо в руке одного из симпосиастов (иногда неверно толкуемое как плектр для игры на лире) интерпретировалось как символ нового рождения, в том числе Bottini A. (1992). P. 64–85. Однако все приводимые в подтверждение этого орфические, неоплатонические и прочие источники говорят исключительно о космическом праяйце, из которого возник мир или древнейшее божество, но никогда – о символическом атрибуте в руке человека. Что касается использования яйца в культе мертвых и героев – см.: Nilsson Martin P. Das Ei im Totenkult der Alten // Archiv für Religionswissenschaft 11. 1908. S. 530–546 – нет никаких известий о том, чтобы оно было связано с надеждами на загробную жизнь. Но главное – всё это лишь частные аспекты яйца как универсального символа зачинающей жизненной силы; см. об этом Haussleiter J., Grün S. Reallexikon für Antike und Christentum 34. 1959. S. 731–745. В связи с этим яйцо считалось также средством, возбуждающим половое влечение и усиливающим потенцию: Алексид (комический поэт), фрагмент 279; Алкифрон 4, 13, 10; Афиней 2, 64a; Овидий. Искусство любви. 2, 421–424; Плиний. Естественная история. 29, 3, 47. См. об этом Arnott W. G. Alexis. The Fragments. 1996. P. 775–776. В этом своем значении яйцо встречается в вазописи как эротический атрибут молодых девушек на выданье или в гомоэротических группах мужчин и отроков: Corpus Vasorum Antiquorum Berlin 2 (1962) Илл. 32, 2; Leipzig 3 (2006) Илл. 47, 3; München 16 (2010) Илл. 40, 5; Münzen und Medaillen AG, Auktion 16 (1956) Илл. 32, 131; часто также как атрибут женщин или бога Эрота на южноиталийских вазах IV века до нашей эры. Вероятно, яйца в погребениях тоже следует толковать как любовный дар, наряду с также нередко встречающимися в качестве погребальных даров астрагалами.