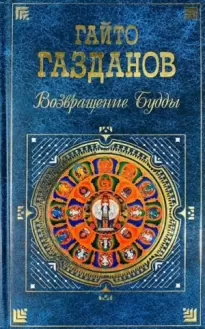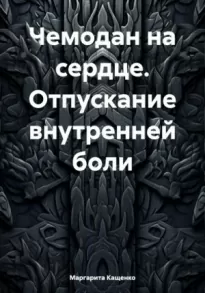Febris erotica. Любовный недуг в русской литературе
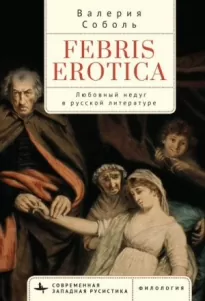
- Автор: Валерия Соболь
- Жанр: Литературоведение
Читать книгу "Febris erotica. Любовный недуг в русской литературе"
Любовь Круциферская: проблемы самодиагностики
Ухудшение здоровья Круциферской происходит сразу после ее разговора с Бельтовым в публичном саду, в ходе которого он признается ей в страстной любви. Это признание заставляет Круциферскую осознать свою собственную любовь к Бельтову, которую она теперь должна примирить с привязанностью к мужу. Эмоциональное потрясение, вызванное этим осознанием, приводит к продолжительной болезни. Придя домой, она настораживает мужа своей «смертельной» бледностью и холодными руками – они также сравниваются с руками умирающего человека. Вскоре после этого у нее начинается горячка. Однако в ее случае доктор Крупов не узнает febris erotica и ставит ей диагноз другого вида лихорадки, довольно банального физического расстройства: «легонькая простудная горячечка». Причины ее болезни, по мнению Крупова, чисто внешние; врач использует популярную теорию миазмов для объяснения ее недуга: «Весенний воздух, кровь остра, талый лед испаряется, всякая дрянь оттаивает» [там же: 177][207]. Рассказчик, напротив, оценивает ее состояние как однозначно психогенное:
Часа через два или три Любовь Александровна, наказанная угрызениями совести внутри и горчичниками снаружи за поцелуй Бельтова, лежала на постели в глубоком летаргическом сне или в забытьи. Потрясение было слишком сильно, организм не выдержал [там же].
Противопоставление внутреннего и внешнего в этом отрывке обнажает несоответствие между скрытыми нравственными причинами болезни героини («угрызения совести») и чисто медицинской, соматической интерпретацией ее состояния доктором Круповым, выразившейся в назначенной им внешней терапии.
Позднее в романе вновь возникает проблема ограниченности медицинского подхода к человеческой психике, сосредоточенного на внешнем и потому неизбежно поверхностного и неполного. Обвиненный Круповым в разрушении семейного счастья Круциферских, Бельтов страстно защищает свои чувства к Любови Круциферской и утверждает, что старый доктор не сумел понять характер молодой женщины так полно, как Бельтов: «К тому же, по вашей привычке морализировать, вы на нее смотрели докторально, сверху вниз, а я, изумленный необычайной силой ее, я склонялся перед ней» [там же: 202]. Бельтов не создает такого же контраста между внутренним и внешним, как это делает рассказчик в ранее процитированном отрывке, – вместо этого он использует вертикальную ось, чтобы противопоставить свое отношение отношению Крупова. Тем не менее в его интерпретации взгляд врача снова ассоциируется с поверхностностью и вытекающим отсюда отсутствием понимания истинной природы объекта. Симптоматично, что Бельтов устанавливает связь между склонностью Крупова к морализаторству и его врачебным взглядом: и моралистский, и медицинский подходы объективируют человека, к которому они применяют набор предвзятых правил и законов; и то, и другое, соответственно, приводит к ошибочному суждению (или к неправильному диагнозу)[208].
Более того, сама героиня поначалу не может правильно оценить свое состояние. Непосредственной физической реакцией Круциферской на перенесенную травму является «забытье» – термин, который в книге используется в значении сна, но этимологически напрямую связан с идеей забвения[209]:
Она не смела понять, не смела ясно вспомнить, что было… но одно как-то страшно помнилось, само собою, всем организмом, это – горячий, пламенный, продолжительный поцелуй в уста, и ей хотелось забыть его… [там же: 176]
Использование безличной конструкции грамматически подчеркивает мысль о том, что это воспоминание – не сознательная ментальная операция, так как героиня выступает не активным субъектом по отношению к этому акту вспоминания, а объектом неподвластной ей силы. Поскольку память о поцелуе в основном физическая, то и забывание (или, скорее, подавление) воспоминания достигается через телесную реакцию героини – забытье и последующую болезнь.
Здесь Герцен создает собственный своеобразный механизм, который помогает ему решить проблему дуалистического раскола между разумом и телом, духом и материей. Физический опыт прелюбодейственного поцелуя входит в «организм» героини и вызывает физическую болезнь, которая есть не что иное, как внешнее проявление ее чувства вины и смятения[210]. Хотя в литературе существует давняя традиция представлять физическое состояние как результат и выражение морального и эмоционального потрясения, Герцен прилагает особенные усилия, чтобы показать промежуточную физиологическую стадию этого процесса, описать реальный механизм, с помощью которого эмоциональный опыт преобразуется в материальность тела. Другой пример такого механизма мы находим в начале романа, в описании Герценом последствий психологической травмы, пережитой матерью Бельтова, Софьей:
Есть нежные и тонкие организации, которые именно от нежности не перерываются горем, уступают ему по видимому, но искажаются, но принимают в себя глубоко, ужасно глубоко испытанное и в продолжение всей жизни не могут отделаться от его влияния; выстраданный опыт остается какой-то злотворной материей, живет в крови, в самой жизни, и то скроется, то вдруг обнаруживается с страшной силой и разлагает тело [там же: 86].
Механизм, который использует Герцен, восходит к предромантической физиологии, а именно к сентименталистской концепции особой, «нежной и тонкой» организации, хрупкой одновременно и физически, и эмоционально. Однако в представлении Герцена такая организация иначе реагирует на интенсивное психологическое переживание: она не «перерывается горем», как это происходит с героями и героинями сентиментализма, а превращает эмоциональное потрясение в материальную субстанцию тела. «Опыт» становится «материей» и, будучи поглощен организмом, остается в нем как неотъемлемая часть физиологических процессов[211]. Так происходит с Круциферской, чья неверность проникает в ее «организм»; с матерью Бельтова Софьей, чья психологическая травма буквально впиталась в ее кровь и сохранилась там; и, собственно, с женой Герцена Натали, реакцию которой на гибель сына во время кораблекрушения писатель описывает в «Былом и думах»: «…она не выздоравливала больше. Испуг, боль остались, вошли в кровь» [Герцен 1954–1966, 10: 282]. Устойчивость этой схемы свидетельствует о ее идеологической значимости для автора. Это далеко не просто метафора, данный механизм предлагает Герцену философски удовлетворительный художественный метод и позволяет ему решить дилемму, о которой я говорила выше. Благодаря подобной физиологической трансформации ему удается изобразить эмоциональную и физическую сферы как смежные и взаимопроницаемые, если не полностью однородные, и тем самым преодолеть дуалистическое представление о человеке.
После первой, чисто соматической реакции на происшествие Круциферская пытается рационализировать ее в своем личном дневнике, который занимает значительную часть романа и документирует мучительный процесс самодиагностики героини. Сначала, как и доктор Крупов, она прибегает к прямолинейной логике медицинского материализма: «То происшествие в саду, оно ничего не значит, болезнь уже приготовлялась, и я была в особом расположении, нервы у меня были раздражены…» [Герцен 1954–1966, 4: 179–180]. Однако мотивация у нее другая: медицинское объяснение Крупова отражает его философскую позицию, для Круциферской же это способ избежать моральной дилеммы. Ранее, когда ее бледность вызвала беспокойство мужа и медицинские рекомендации доктора Крупова, Круциферская отвергла медицинскую интерпретацию своего состояния: «Я не больна, я не больна» [там же: 177]. Однако позже, когда она сталкивается с необходимостью оценить истинный смысл произошедшего, медицинское объяснение оказывается слишком заманчивым. Примечательно, что соматическое понятие «нервная раздражительность» снова приходит на помощь, когда делается попытка объяснить острую эмоциональную реакцию как результат физического расстройства. По сути, чисто медицинское объяснение устраняет саму потребность в смысле («то происшествие в саду, оно ничего не значит») и тем самым приостанавливает интерпретации Круциферской. Привлекая науку в качестве своего сообщника и отрицая психосоматическую природу болезни, героиня временно отказывается от поиска смысла и откладывает решение своего внутреннего конфликта.
Однако по мере проводимого в дневнике самоанализа она постепенно движется к признанию правды. Для этого героине необходимо переосмыслить свою недавнюю болезнь как психогенную, а не исключительно физическую: только в этом случае она сможет увидеть истинную причину своей сильной физической реакции и в конечном итоге признать ее. Следующий шаг в этом процессе происходит, когда ее маленький сын Яша заболевает скарлатиной. Это чисто соматическое заболевание, успешно диагностированное и вылеченное доктором Круповым – который, как мы помним, обычно терпит неудачу при столкновении с «душевными болезнями» – создает скрытый контраст с состоянием самой героини, природа которого гораздо более уклончива и не так легко поддается идентификации и лечению.
Контраст становится явным, когда Яше наконец становится лучше, а Круциферской нет: «Все успокоилось, Яше гораздо лучше; но я больна, больна, это я чувствую» [там же: 182]. Конечно, Круциферская уже оправилась от «простудной горячки», но в этот момент она наконец понимает, что ее истинная болезнь не прошла с исчезновением лихорадочных симптомов:
Сижу иногда у его кроватки, и вместо радости вдруг, без всякой внешней причины, поднимается со дна души какая-то давящая грусть, которая растет, растет и вдруг становится немою, жестокой болью; готова бы, кажется, умереть [там же].
На этот раз Круциферская не ищет физических причин своего состояния, таких как «нервная раздражительность» или теория миазмов; она знает, что причина находится внутри нее («без всякой внешней причины») – и, более того, что она не в теле, а на «дне души». Героиня признает, что физическая боль, которую она испытывает, – плод эмоционального состояния; снова происходит герценовская психофизиологическая метаморфоза, когда «грусть» превращается в физическое страдание.
С осознанием психогенной природы своего физического состояния приходит и более честное исследование самой себя: «…какой-то скорбный, мучительный голос звал меня заглянуть в свое сердце, и я не узнала себя» [там же]. Это столкновение со своим изменившимся «я» подготавливает героиню к финальному откровению. Интересно, что осознание истины Круциферской происходит не в форме рационализации или вербализации ее внутренних переживаний, а как символическое событие – событие, в котором материализуется источник ее «давящей грусти»: «Не знаю, долго ли я спала, но вдруг мне сделалось как-то тяжело, я раскрыла глаза – передо мною стоял Бельтов…» [там же]. Ее физическое пробуждение, что примечательно, совпадает с моментом откровения; другими словами, когда Круциферская «раскрывает глаза», она не просто пробуждается ото сна: она открывает глаза на правду и, наконец, смотрит ей в лицо, как в прямом, так и в переносном смысле. Именно в этот момент героиня окончательно пробуждается от того «забытья», отсутствия самосознания, в котором она символически пребывала с момента рокового поцелуя.