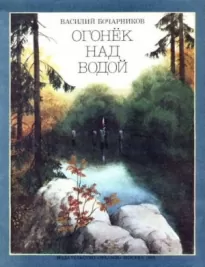Дождь над городом

- Автор: Валерий Поволяев
- Жанр: Приключения / Советская проза
- Дата выхода: 1979
Читать книгу "Дождь над городом"
— Что? — спросил он глухо, наморщил лоб, стараясь освободиться от внезапно навалившейся на него мучительной и стыдной слабости, приложил пальцы к виску, растер плоскую, слегка угловатую ложбину.
— Можно автограф попросить у вас, Василий Игоревич?
— Можно, — сказал он, достал из пиджачного кармана фломастер с тонюсеньким нейлоновым зерёнышком, отогнул обложку на книге, подумал, что надо бы спросить имя у этой девушки, неудобно надписывать книгу просто так, безымянно... Но удобно ли это будет — имя, фамилия? Так можно и до отпечатков пальцев дойти. В вопросе насчет имени-фамилии есть что-то интимное, обязывающее, что может быть воспринято неловко — все-таки девушка из Тимкиного окружения, и он не знает, в каких отношениях находится с ней сын. Мало ли... Балаков ощутил в себе что-то сумеречное, поугрюмел, подумал, что любые расспросы будут сейчас не очень тактичны и вообще, действительно, есть какая-то обязывающая неловкость в словах: Люде или Тане такой-то от усталого человека, написавшего сию книгу... «Нет, лучше все-таки безымянно, лучше все-таки просто автограф», — решил он и широко, с нажимом расписался.
Девушка поблагодарила его, даже сделала книксен, трогательно согнув одну ногу и выставив круглую, туго обтянутую чулком коленку, но Балаков уже не смотрел на нее, он вновь погрузился в свои мысли, будто утонул в них, накрылся с головой. Вообще-то он мало, очень мало внимания уделял последние два года Тимке — проморгал, проворонил момент, когда тот покидал родительское гнездо, когда захотел обрести психологическую самостоятельность, и вот, нате вам, — результат. В нынешнем Тимкином состоянии гораздо больше виноват сам он, чем Тимка: ведь он, Балаков, старше, умнее, опытнее, образованнее сына, мог бы и увидеть неладное, мягко, неназойливо подправить, да не получилось. Сам виноват — проморгал-проворонил, — проморгал-проворонил... Что же теперь делать? Лишить Тимку карманных денег? Метод чрезвычайно примитивный, он только обозлит сына и отдалит его от Балакова. Наверное, остается одно — выждать немного, пусть он насытится вдосталь мнимой своей весомостью, популярностью, что ли, и тогда все станет на свои места... А если не станет? «Тогда придется завернуть гайки, придется действовать круто, — подумал он, — но сейчас, как бы там ни было, вмешиваться пока рано. Не настал черед». А потом, и самому надо войти в колею, забраться в свою тарелку, из которой его выкинуло, даже сам не заметил как. Да еще два издательских договора подгоняют — надо работать... Работать!
Словом, нужно переменить обстановку и уехать. Это подействует, как лекарство, все поставит на свои места.
Когда он поднялся из-за стола, решение было принято: да, нужно уехать. В Дом творчества. Новые люди, новое окружение, новая обстановка...
День ушел на разные хлопоты, на формальности — на приобретение путевки в Литфонде — там всегда придерживали резерв, на добычу билетов, на упаковку чемоданов и прочая, прочая, прочая, прочая...
Утром следующего дня он сел на самолет, подремал полтора часа на высоте девяти тысяч метров и очутился в Симферополе. Тут уже была весна. Где-то Балаков вычитал, что весна движется со средней скоростью пятьдесят километров в сутки. Простенькая цифра — пятьдесят километров — как в учебнике по арифметике, и никакой тебе романтики, никакого торжества тепла, цветения, пробуждения земли, все обыденно, сухо, даже скучно. От такого отношения к весне, простите, скулы сводит и глаза горят, будто в них сыпанули перцем.
Но несмотря на весну, симферопольская погода ему не понравилась: из редких лохматых тучек, как из прорвы какой, пылило мелкой влагой, деревья, где из почек еще только начали вылущиваться листочки, были мокры и грязны, обочины дорог, там, где за кромкой асфальта рыжеет земляная канва, — разбиты колесами тяжелых грузовиков, — словом, во всей природе, в ее настрое было что-то гнетущее, мутное, по-другому и не определишь. Балаков насупился, внезапно обиженный несостоявшимися надеждами, оскорбительно-унылой погодой, молча сглотнул слюну, забрался в такси. Шофер, поймав его мрачный взгляд, подмигнул ободряюще:
— Погодь, друг, счас мы попутчиков найдем, веселее будет.
Попутчиков он нашел довольно быстро. Хотя Балаков и ожидал увидеть какую-нибудь необхватную бабу-мешочницу, направляющуюся в Ялту на рыночный промысел, но, странное дело, — нет, не баба предстала перед ним, шофер выдернул из привокзальной толпы двух вполне интеллигентных людей в одинаковых очках — на переносицах и ушах соломенным золотом блестели тоненькие дужки, — усадил их на заднее сиденье, критическим оком оглядел всех троих:
— Та-ак, теперь бы нам еще и слабого полу, чтоб полный комплект был.
— Зачем? — поинтересовался один из очкастых. Попутчики были разительно похожи друг на друга — ну просто братья-близнецы, выструганы из одного дерева, отлиты по одной форме, или, как это там называется, опоке? — в технике Балаков был слаб — и родились конечно же в очках — тоже в одинаковой, штампованной жестяной оправе. И с одинаково интеллигентными лицами.
— Чтоб веселее было, — ухмыльнулся шофер, обнажив широкие и длинные, древесные от курева зубы.
Глухое тяжелое раздражение шевельнулось в Балакове, он, поерзав кадыком, взял себя в руки, промолчал, подумал о чем-то тоскливом, своем, одиноком, посмотрел в окно на суетную площадь, на людей, на очередь, сгрудившуюся у междугородной троллейбусной остановки, на огрузшие, ленивые, бесформенно набухшим тряпьем волокущиеся над самыми деревьями облака, и ему стало еще более одиноко и тяжко, щемящий обжим сдавил шею, стало трудно дышать. Он кашлянул в кулак, шофер этот кашель воспринял как одобрение, метнулся к толпе, выхватил из нее молодую, худющую, как веревка, женщину с короткой, цвета ржави, прической и мелкими конопушинами, обсыпавшими нос, втиснул ее рядом с очкастыми на сиденье, проворно взял руль, крикнул:
— Поехали!
Когда поднялись на перевал, откуда уже была видна голубая, нежная и неожиданно чистая, праздничная полоска моря, обжим вокруг горла ослаб и Балакову сделалось легче. Водяная пыль прекратилась, облачные лохмы остались по ту сторону гор. Им не хватало мощи, «лошадиных сил», легкости, чтобы преодолеть перевальные кряжи. А спустились с перевала и вовсе попали в чистый, незастойный воздух, полный света и невесомого сухого тепла, и Балакову стало неожиданно стыдно, до мучительных слез неловко перед собой за раздражение и обиду, не отпускавшие его в последние дни, за натуженность, внутреннюю взъерошенность, неприбранность. Он обернулся к спутникам, улыбнулся робко, даже заискивающе, интеллигенты дружно стрельнули в него очками, конопатая подбадривающе раздвинула губы.
В Доме творчества ему была уже приготовлена хорошая комната, кровать застелена крахмальными простынями, с балкона открывался ослепительный вид на море, совсем рядом, как бы подпирая балкон, раскачивались гибкие, обсыпанные мелкими шишками кипарисы, чуть поодаль высилась крымская сосна, в густоте которой шебуршилась ловкая, цвета дыма белка, расправлялась с орешками. А ниже, за сосной, по спуску, броскими розовыми всплесками, очень похожими на взрывы, цвело «иудино дерево», колченогое, скорченное от муки и позора, с узловатыми, в болевых наростах, ветками. На черных ветках этих листвы совсем не было, набухали какие-то козюльки, смахивающие на почки, но ничего общего с листьями эти пупырышки не имели, а вот цвет гнездился сплошной, он облепил сучки, как пена, свешивался гроздьями вниз. Говорят, что Иуда повесился не на осине — в пустыне, где все это происходило, осина не растет, — повесился Иуда на этом вот скрюченном дереве.
Если в Симферополе падала с небес водяная пыль, жидкая мука, то здесь непогодой и не пахло, здесь был свой климат и, подчиняясь законам этого местного климата, светило солнце, цвели деревья, земля кряхтела под напором прущих из глуби трав, злаков, прорастающих, продирающихся наверх семян деревьев и кустарников; в природе ощущалось то устойчивое напряжение, что способствует нарождению нового, очищает горло, легкие, душу, наполняет жизнь нашу, все порывы и поступки особым обновленным смыслом. Балаков долго стоял недвижно, щурясь на морскую синь, на белые, смахивающие на мыльницы коробки судов, наряженные в многоцветье флажков, в утопающие в солнечном дыме кряжи, на карачках сползающие к морю.
Народу в Доме творчества было не ахти как много — сезон еще не наступил, но присутствие брата писателя чувствовалось и слева и справа; сухо трещали машинки, стук доносился и снизу — только там машинка была либо слишком древней, либо слишком новой, она бухала, как станковый пулемет, а когда хозяин разворачивал каретку, приводя ее в исходное положение, то мощная стена здания тряслась, словно рядом проезжал трамвайный вагон.
На следующее утро Балаков проснулся, когда солнце еще только поднималось над горными отвалами. Было рано и сыро, не истаял еще пот ночной. Балаков покрутил головой, поерзал виском по подушке, соображая, что же его разбудило — вроде бы сон был глубоким, ничто не проникало в него извне, но тут раздался тяжелый пулеметный стук, какой-то неестественный, с подвизгом, пронзительный, на высокой ноте, потом стук прервался и был сменен тряским скрежетом. «Неужто брат письменник в четыре утра начал вставать? И сразу за работу, а?» — завистливо восхитился Балаков, поднял голову и вдруг сквозь стекло балкона увидел, что буквально напротив на вершине кипариса раскачивается здоровенный крапчатый скворец-желтоклюв, прочно вцепившийся лапками в ветку; вот он распахнул зев, напряг горло, взъерошил оперенье, будто петух перед дракой, и в стекла вновь застучал пулеметный грохот машинки — той самой, на которой трудился сосед, что снизу. Балаков рассмеялся: ишь прохиндей-скворец, чему обучился, а? — передразниванию. Окно снизу тем временем раздвинулось, владелец «станкового пулемета» швырнул в скворца хлебной коркой, тот плутовато покосился, сощурил глаз, улыбнулся чему-то своему, птичьему, перемахнул на соседний кипарис, дал очередь оттуда.
— Кота хорошего на тебя нет, — проворчал владелец «станкового пулемета».
Вообще, надо заметить, что дом был полон своих мелких тайн, обычаев, примет, явлений, жизнь в нем протекала многослойно, — как говорится, сразу на нескольких ярусах, и «коты хорошие» тоже обитали в нем, тут не прав был владелец «станкового пулемета».
Насчет котов. Главным среди них был Интеллигент — серый, в едва приметную полоску, с умными недоверчивыми глазами. Он объявлялся в дни, когда в зальчике, расположенном рядом со столовой, а вернее под ней, на первом этаже (столовая была на втором), крутили кино. Интеллигент мягкой, неслышной походкой входил в зальчик за две минуты до начала фильма — не позже и не раньше. Внимательно рассматривал присутствующих, потом вспрыгивал в одно из кресел первого ряда и спокойно ждал, когда погаснет свет. Если фильм был хорошим, он смотрел его до конца, если же так себе, средним или плохим, то минут через десять спрыгивал с кресла и удалялся. И уж коли Интеллигент покидал зал, фильм можно было дальше не смотреть — вкус у кота был почище, чем у иного кинокритика, безошибочный был вкус.