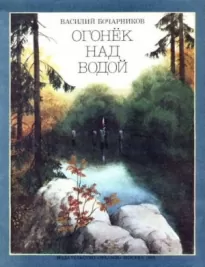Дождь над городом

- Автор: Валерий Поволяев
- Жанр: Приключения / Советская проза
- Дата выхода: 1979
Читать книгу "Дождь над городом"
18
Костылев долго и сложно приходил в себя, а приходя, тяжело, дотошно разбирался в собственных ощущениях, вспоминая и морозную, в дымке, дорогу, на которую его вышвырнула взбесившаяся плеть, и хряск вертолетных лопастей, похожий на рвущуюся ткань, и заросшее черным лицо пикового короля, склоненное к носилкам, которое он так и не узнал, и вышибающую кожные мурашки белизну приемной палаты с марлевой прореженной занавеской, пропускающей свет, но не пропускающей взгляд, и белохалатный взвод консилиума, и дурманящее око лампы над операционным столом, и гортанные слова латыни, проникавшие в его сознание из преисподней. Потом он пришел в себя окончательно, удивился своему небритому подбородку, — когда провел им по крахмальной натертости простыни, подбородок затрещал электричеством. Его как током пробило — боль уколола ноги, самые ступни, он враз, в ошеломляющей четкости, последовательно вспомнил все, что с ним произошло, и болезненная бледность наполнила его лицо — Костылев читал где-то, что люди с ампутированными ногами еще очень долго чувствуют конечности, пальцы, ступни, боль, чувствуют каждый порез, тугие обжимы ботинок, от которых тупо цепенеют стопы, простудную ломоту и ревматические приступы, — ему показалось, что страшная толстотелая труба-«тыщовка» снова обрушилась ему на ноги. Он застонал. В палату, словно что почувствовав, вбежала сестра, пожилая, крутобокая, с узенькими, почти в полоску сомкнутыми глазами, вытянулась в тревожной птичьей стойке. Костылев, встретившись с ней глазами, прикусил до кровяных капель нижнюю губу. Потом растерянно, с мольбой, исказившей его лицо, поднял голову и медленно, толчками, каким-то пунктиром, морзянкой перевел взгляд в конец койки, на полотняный конвертик, огибающий краевину одеяла. Там, где были ноги, одеяло, как и положено, бугрилось.
— С-сестра, — позвал он с сипепьем, пробившимся сквозь мокроту горла. — Сестра, ноги у меня есть?
— Есть, мёдочка. Куда им деться, — ответила та прямодушно, с обнадеживающей грубоватостью.
— Мне плеть ноги перерубила, — Костылев облизал губы пухлым, малоувертливым языком.
— Не перерубила. Миловала.
— Как же так? — с идиотским неверием спросил он.
Сестра понимала, что это тупое упрямство идет от желания больного до конца поверить в то, что с ним ничего страшного не случилось, что все на месте, налицо все атрибуты, дающие человеку человеческий облик.
— А вот так, — ответила она, не меняя своего грубоватого тона. — Не знаю, как это было, место происшествия не исследовала, но сказывают, когда падала плеть, ноги твои в машинный след попали. Он и спас. Ходули твои спас.
— А операция? — прошептал он.
— Что операция? Подстругали тебя немножко, заштопали, пару кожных лохмотов пришили. Кости не раздроблены, а вот трещины, тут врать не буду, есть. Так что полежишь у нас. Пока не надоест.
— А почему оброс так? — задал он вопрос совсем уж идиотский. Человеку голову с трудом сохранили, а он спрашивает, почему помяли прическу.
— Долго без сознания был.
— А п-почему?
— По кочану да по кочерыжке, — обрезала сестра, которой разговор этот начал надоедать. — Болевой шок был. Знаешь, что такое болевой шок?
— Читал.
— То-то. Раньше читал, а теперь на себе испробовал. Спи пока. Не то до срока выпишем.
— Хотелось ба.
— «Хотелось ба», «хотелось ба», — она передразнила Костылева, покачала головой, как опрокинутым вверх ногами маятником, от плеча к плечу.
В представлении Костылева больничные няни, сестры, сиделки, санитарки, прочая обслуга должны быть седенькими добродушными полнушками, с милостью в глазах, к имени которых, называя, непременно надо приставлять слово «тетя»: тетя Таня, тетя Маша, тетя Настена, тетя Нюра и так далее. Каждая из них должна иметь русый облик, а эта сестра из хантов, и имя у нее, наверное, сложное, в три колена, что сразу и не выговоришь, национальное.
— Как вас зовут? — спросил он.
— Тетя Таня, — ответила сестра и, прошуршав плотным, до жестяной ломкости накрахмаленным халатом, оставила Костылева в одиночестве. Он улыбнулся. Испуг, чуть не лишивший его сознания, прошел. Значит, с ногами все в порядке, если, конечно, перебинтованные, заточенные в гипс ходули (он вспомнил интонацию, с которой тетя Таня произнесла слово «ходули», смешную картавость речи — дефект, на который не сразу обратил внимание) можно назвать «порядком».
Закрыл глаза и недолго сопротивлялся сну — сон был легким, из тех, что вспоминаешь с улыбкой.
Потянулись дни, похожие друг на друга. Вначале больничное томление переносилось в охотку, без душевной натуги, потом Костылев начал скучать. Утром — приход врача; внимательные, ничего, кроме причастности к болезни, не выражающие глаза; кормежка, после которой сил прибавлялось ровно настолько, чтобы два раза провести руками по воздуху, сотворить жалкое подобие зарядки; потом тоскливое однообразное лежание в кровати; стыдливое оправление, не отходя, что называется, от кассы; постненький обед диетика, сбрасывающего жирок; прием лекарств — однотипных, горьких; долгое предвечернее одиночество, через раз скрашиваемое сном; ужин; ночные бдения, когда от тычка в бок разлепляются глаза, сами, бесконтрольно, и потом долго приходится искать способ, чтобы их слепить снова. Все однообразно.
...Он еще не начал вставать, когда однажды в палате появилась тетя Таня; застегивая халат на графиноподобном теле и с радостной умелостью поблескивая глазками — наверное, тоже профессиональное — прокартавила важно:
— Ну, Костылев, пляши! К тебе гости.
Костылев вытянул голову, тревожно взглянул на тетю Таню, зыркнул на эмалированный, ведерного размера судок, выглядывающий из-под койки. Тетя Таня вскинула руку, как оратор на трибуне, пришлепнула ею воздух.
— Все поняла, Костылев. Можешь не стесняться, мёдочка. Счас накрою газеткой твой персональный унитаз.
Не было в ее словах, в тоне, в психологической окраске голоса чего-то унизительного, неприязненного, был грубоватый, плоский юмор, какого вдоволь в провинции, где грузным, неуклюжим, как полено, словом не брезгуют ни мужчины, ни женщины, все пользуются.
— Кто приехал, тетя Тань? — спросил он, успокаиваясь.
— Доложу, если спасибо скажешь, — сестра залезла в карман халата, извлекла оттуда плоский разлинованный блокнотик с прицепленным к корешку карандашиком, с медвежьей медлительностью добыла из другого кармана очки, навесила их на маленький носик-кнопочку. — Тэ-эк-с, — произнесла с профессорским многозначьем, подцепляя пальцем листики блокнота, просматривая их и с лица и с изнанки, а Костылев все тянул и тянул голову, морщась: вот, тетеря, не могла где-нибудь поближе записать.
— Ну? — произнес он нетерпеливо.
— Не нукай, мёдочка, — окоротила тетя Таня. — Не на Луну летим. Вот, — она прижала пальцем-подушечкой вощеный листик, пошевелила губами, будто заучивая текст, потом прочитала быстро и звучно, как артист с эстрады. — Товарищ Рогов. Товарищ Баушкин, — взглянула на Костылева исподлобья, поверх очков, — это наш поселковский председатель Президиума Верховного Совета...
— Знаю, — перебил Костылев.
— Уж не нажаловался ль ты? Может, плохо кормим?
— Плохо. Но это никакого отношения к Баушкину не имеет.
— Ладно. И-и... Товарищ Старенков. С цветами и подарками. Хватит?
— Хватит.
— Тогда впускаю.
Первым в палате возник бригадир, с дороги не чесанный, блеснул здоровой голубоватостью белков, словно молнию в стенку над костылевской головой вогнал, улыбнулся, раздвигая бороду. Из дремучих зарослей чисто проглянули зубы.
— Старенков, — задавленно пробормотал Костылев.
— Он самый! — проорал бригадир, в один гигантский — только рекорды мира по прыжкам в длину побивать — скок пересек палату, обдал Костылева морозом, папиросным ароматом, крепостью водки, раскинул мозолеватые, фанерно-твердые ладони, спохватившись, убрал их, опустился на колени рядом с кроватью, прижался щекой к мятому простынному боку, засмеялся тоненько, визгливо, как девчонка, которую пощекотали. — Ваанька! Жив, курилка, рыбья голова, капроновые уши! Обормот ты двулапый! Двулапый спереди, двулапый сзади! — пристукнул кулаком по прогнутой кроватной слеге. Под Костылевым тихо дзенькнули панцирные пружины. Распрямился, откуда-то из-под ремня выудил страшноватую, черного стекла бутылку с иностранной наклейкой, махом водрузил на тумбочку.
— «Камю», — улыбнулся Костылев. — У-у-у. Лучший в мире коньяк. Французский.
— Т-точно, — раздвоил бороду Старенков. — Камю на Руси жить хорошо? Камю? А?
— Нам! — Костылев улыбнулся шире: на пороге палаты стоял Рогов, долговязый, как телефонная опора, потный и густо обсыпанный конопушной гречкой, потому что дело уже шло к весне. На бывшем костылевском сменщике был черный, с лунной металлической полоской костюм, еще была слепяще-холодная, какой-то каменной, мраморной или кварцевой белизны рубашка с длинными негнущимися концами воротника, имелся и галстук. В разводах. Из-под роговского локтя выглядывал Баушкин. Он ничуть не изменился, все такой же, полный достоинства, веселый, с глазами-бусинами, по-вороньи зоркими, мудрыми, опытными.
— Здравствуй, Иван, — промямлил Рогов, звонко переступнул с ноги на ногу, словно подкованная лошадь перед прогулкой; Костылев взглянул вниз, на его ноги, и ахнул: мать моя, роговские копыта никак не менее сорок седьмого размера. Ничего себе лапы отрастил! Когда унты да сапоги носил — незаметно было, а в туфлях сразу бросилось в глаза.
— Пить больному можно? — спросил Баушкин.
— Можно, — махнул рукой Старенков, — если пить не будет, в сто лет не вылечится. Проверено.
— А как с этим... Ну, насчет борьбы с пьянством? — спросил Рогов, не покидая своего поста в проеме двери.
— Разве это пьянство? — удивился Старенков. — У нас повод.
— Какой? — поинтересовался Костылев.
— Сейчас узнаешь, — он сделал хитрое, загадочное лицо.
Рогов звонко клацнул подкованными штиблетами, посторонился. В двери показался смущенный, краснолицый и этой своей здоровой багровостью смахивавший на альбиноса Уно Тильк, его волосы обелесели совсем, в глазах застыла торжественность, словно у адмирала перед спуском крейсера на воду. Одет он был, как и Рогов, также подобранно, элегантно, словно собирался на дипломатический прием в посольство: модный костюм из такой же, как и у Рогова, ткани — видно было, что покупали в одном магазине, — только искр поменьше, та же кипень рубашечного полотна, галстук в павлиньих размывах — картинка из журнала этот Уно. Только брюки были коротковаты — попробуй на такого гиганта найти штаны, чтобы они были впору. Все подряд, сколько он ни примеривал, сидели на нем как шортики. Обшлага брюк набухли и отвердели от влаги, на ногах были лаковые, с округлыми, яйцеподобными носами туфли.
— Вы, ребята, что? Фотографироваться в полный рост нарядились? — Костылев поерзал на кровати, чувствуя себя неудобно перед писаными красавцами — неловко даже находиться с ними в одной комнате, выступать в непрезентабельном одеянии, в рубашке с треугольным вырезом, из которого выглядывает незагорелая, с выступающими кулачками ключиц грудь, с мятым, бледным от больничной озабоченности лицом. Он подтянул одеяло к подбородку, выпростал одну руку. — На доску Почета? Иль вас французский посол на коктейль пригласил?