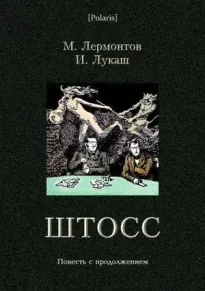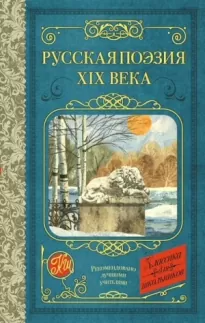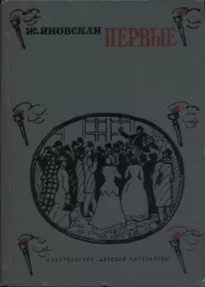Пушкин и компания. Новые беседы любителей русского слова

- Автор: Борис Парамонов
- Жанр: Публицистика / Литературоведение
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Пушкин и компания. Новые беседы любителей русского слова"
Пушкин
Б. П.: Самая сложная тема русской литературы – Пушкин. Именно потому, что это с детства знакомое имя, с детства читавшиеся тексты. Многими даже до школы. А в школе, как известно, вкус к литературе был методически разрушаем. Заставляли «разбирать» литературу и ее образы, писать собственные сочинения о литературных героях, при этом навязывая казенную, на данный исторический момент приготовленную трактовку. А Пушкиным начинали в этой манере пичкать чуть ли не с первого класса. О себе могу сказать: я с детства книгочей и никогда не переставал читать русскую классику, но именно Пушкина после школы забыл, к нему не обращался, тогда как Толстого, Достоевского читал и старался понять всегда.
И. Т.: Охладели к Пушкину, он перестал быть для вас живым писателем?
Б. П.: Не совсем так. Я всегда знал и чувствовал, что он, так сказать, самый главный, это я успел не только усвоить извне, но и вполне проникся таким знанием, таким чувствованием и оценкой. Но Пушкина взрослые люди редко перечитывают, а если существуют чудаки, знающие наизусть «Евгения Онегина», то смело можно сказать, что в девяти случаях из десяти это некие самоучки, люди, которые кроме этого ничего не знают о литературе и ею не интересуются.
И. Т.: Мейерхольд говорил Александру Гладкову: Пушкин – лучший поэт, но я не верю людям, которые на вопрос: кто лучший поэт? – отвечают: Пушкин.
Б. П.: Да, это штамп, всегда готовый к бездумному предъявлению. Пушкин начинает по-новому восприниматься, открывать свою специфику, когда вы как следует узнаете последующую поэзию, особенно двадцатого века. Об этом еще поговорим, сейчас же скажу, что, не будучи фанатичным его читателем, я всегда знал, что он написал лучший текст русской литературы: «Медный всадник». Как-то сразу понял, запомнил и всегда знал.
И. Т.: Мы с вами, Борис Михайлович, петербуржцы, и Пушкин всегда предстоял нам в образе воспетого им города. Вы шли по набережной Невы – и вы были с Пушкиным, и Пушкин был с вами. Правда?
Б. П.: Но я сразу, или почти сразу, или со временем, но понял, что есть в «Медном всаднике» еще один герой, помимо Петра и бедного Евгения: это Нева, образ мятежной стихии, и отнюдь не только природной, это угроза самой петровской культуре, самому Западу в России, самой Европе.
Помню, уже будучи преподавателем и пользуясь богатейшей библиотекой ЛГУ, я нашел сборник работ членов венгеровского семинария по Пушкину…
И. Т.: Того, в котором начинал Тынянов?
Б. П.: Да, но Тынянова в том сборнике не было, а прочитал я работу Бориса Михайловича Энгельгардта. (Не путать с Эйхенбаумом: тоже Борис Михайлович и фамилия на «э» начинается.) Это тот Энгельгардт, который в 1927 году выпустил очень хорошую книгу о формалистах, о формальном литературоведении. А в той студенческой еще работе (то ли 1915, то ли 1916 года) о «Медном всаднике» он писал как раз об этой стихии бунта и о грядущем его социальном воплощении в восстании черни. Бедный Евгений, так сказать, будет отомщен.
И. Т.: Так и произошло. И после этого реванша Невы Петербург даже столицей перестал быть.
Б. П.: И не говорите. Маленький человек русской литературы взял реванш в жизни, в исторической действительности: Акакий Акакиевич начал срывать шинели с генералов в реале, как теперь говорят. Вспоминается Шестов, сказавший: Достоевский дал понять, что маленький человек в потенции чрезвычайно опасен.
Но вернемся к Пушкину. Пушкин бесспорен, это главное, что в нем как-то сразу понимаешь. И знаете, Иван Никитич, у меня это связано с тем, что я и не могу, и, главное, не хочу о нем говорить: и так все ясно.
И. Т.: Постойте-постойте, а как же наша нынешняя беседа? Князь, князь, назад!
Б. П.: Я понимаю, что это звучит странно, но вот что я имею в виду. Пушкин – неоспоримая культурная данность, и главная эмоция, связанная с ним, – то, что он просто существует. Вот как люди знают, что в Риме существует собор Святого Петра и что есть Венеция. И этого уже достаточно: существуют, есть, стоят на месте, не сожжены и не затоплены.
Ну, а еще что здесь важно: о Пушкине самом по себе очень трудно говорить. С любой темой связать его можно, и тогда какие-то мысли появляются. Скажем, Пушкин и Мандельштам.
И. Т.: Ирина Сурат об этом много пишет.
Б. П.: И хорошо пишет. Или в более общем контексте, к примеру: Пушкин и религия. Это нынче сфера Валентина Непомнящего. В таких пушкинских соотнесениях можно многое сказать, вообще язык развязывается, появляются всякого рода культурные ассоциации. Или можно соотнести Пушкина с биографическим опытом самого автора, о нем пишущего. Тут главный пример – Марина Цветаева с «Моим Пушкиным».
И. Т.: Кстати, Валерий Брюсов сборник своих пушкинских штудий назвал «Мой Пушкин», Цветаева именно у него взяла заглавие.
Б. П.: Что и говорит лишний раз о невозможности для нее от Брюсова отделаться. Но как говорить, что сказать о самом Пушкине, то есть именно о стихах его? Страшно трудное дело! И я от души сочувствую Белинскому, написавшему о Пушкине аж одиннадцать статей. Причем о самом Пушкине речь зашла только в пятой. Но что он написал? Он там только ахал и охал: ах, как это прекрасно! Между прочим, сам Пушкин не раз говорил о русской критике, что она не затрудняет себя аргументацией, а просто пишет: это хорошо, потому что прекрасно, а то нехорошо, потому что дурно. Но такая ситуация как раз вокруг него возникает. Разве что дурного у него не найти.
И. Т.: Но Белинский как раз кое-что дурное у него заметил, не одобрил, во всяком случае: недооценил «Полтаву» и «Капитанскую дочку», к примеру. Обругал пушкинские сказки.
Б. П.: Белинский на какую хитрость пустился: он берет какую-нибудь тему у Пушкина и начинает по ее поводу сам высказываться. Например, в «Евгении Онегине» есть строчка: «Родные люди вот какие». И Белинский на несколько страниц рассуждает о житейских ситуациях, связанных с явлением родства. Ну, или возьмем другого критика, уже из XX века, Айхенвальда: что он написал о Пушкине в своих «Литературных силуэтах»? Те же ахи и охи.
И. Т.: Борис Михайлович, Белинский ведь писал о Пушкине тогда, когда Пушкина как бы забывать стали. Известно, что вообще Пушкин еще при жизни, в тридцатых годах, стал терять популярность, любовь и понимание. Причем лучший, зрелый Пушкин. Требовалось восстановить табель о рангах. Вот эту задачу взял на себя Белинский.
Б. П.: Опять же тут другая тема ощущается – доминация критики над литературой, начавшаяся именно с Белинского и продолженная потом в явлении так называемой реальной критики: Чернышевский, Добролюбов, Писарев. И эта тройка отнюдь не способствовала вящей славе Пушкина. Их окоротить пришлось уже Страхову Николаю Николаевичу, снова заговорившему о Пушкине как следует в семидесятые годы. Ну а потом пушкинские торжества 1880 года, речь Достоевского знаменитая – и пушкинский канон утверждается незыблемо.
И вот, коли у нас возникло имя Страхова, то возьмем одну его пушкинскую тему: он писал, что Пушкин как поэт не открыл никаких новых путей, он только закончил, явил в полной силе и зрелости то, что сделано было в русской поэзии раньше, что он как поэт – явление XVIII века. Это, по всей видимости, противоречит тому, что все писали о Пушкине как родоначальнике русской литературы – той литературы XIX века, которая составила русскую культурную славу. Тут можно привести десятки и сотни соответствующих суждений. Тот же Достоевский на этом всячески настаивал. Или вот, к примеру, Брюсов, коли уж он у нас упоминался:
Очень многие, замечательнейшие создания позднейшей русской литературы – лишь развитие идей Пушкина. Сами того не подозревая, литературные борцы за эмансипацию женщины 60-х годов подхватывали призыв Пушкина: он наметил эту тему в «Рославлеве», в отрывке «Гости съезжались», в «Египетских ночах», особенно в программе драмы «Папесса Иоанна». Зависимость от Пушкина Гоголя – очевидна («Ревизор», петербургские повести). Основная идея «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых» Достоевского – та же, что «Медного Всадника», основная идея «Анны Карениной» Толстого – та же, что «Цыган»; так называемые «богоборцы» начала XX века сами признавали свое родство с Пушкиным, и т. п. Пушкин словно сознавал, что ему суждена жизнь недолгая, словно торопился исследовать все пути, по которым могла пойти литература после него. У него не было времени пройти эти пути до конца; он оставлял наброски, заметки, краткие указания; он включал сложнейшие вопросы, для разработки которых потом требовались многотомные романы, в рамку краткой поэмы или даже – в сухой план произведения, написать которое не имел досуга. И до сих пор наша литература еще не изжила Пушкина; до сих пор по всем направлениям, куда она порывается, встречаются вехи, поставленные Пушкиным, в знак того, что он знал и видел эту тропу.
Слова и мысль Брюсова типичны, это суждение повторялось десятки, сотни раз: Пушкин – отец великой русской литературы, он ее создатель, до Пушкина были литераторы, он породил литературу. Это общее место. И все-таки тему Пушкина в его отношении к последующей литературе нельзя оставлять на том бесспорном и бесспорностью этой неинтересном тезисе о Пушкине как отце русской литературы. В нем была инакость по отношению к ней, к последующей русской литературе. И дело не только в приемах стихосложения пушкинского. Что имел в виду Страхов в тесном смысле преимущественной связи Пушкина с предшественниками, а не с последователями? Страхов говорит исключительно о ямбе у Пушкина, взятом им у Ломоносова, о том, что Пушкин не увлекался поисками иных стихотворных метров, как, скажем, Жуковский, ему, Пушкину, хватало этого ямба, в основном четырехстопного, чтобы сказать то, что он хотел.
Но за этим узким полем есть и другие темы, другая тема. Пушкин был человек XVIII века – петровского века, века Петра – по другому, куда важнейшему признаку: у него было мировоззрение петровского века. Он себя чувствовал птенцом гнезда Петрова. И по какому признаку опять же? Тут важнейшее слово сказал Г. П. Федотов в замечательной статье «Пушкин – певец империи и свободы»:
Русская жизнь и русская государственность – непрерывное и мучительное преодоление хаоса началом разума и воли. В этом и заключается для Пушкина смысл империи. А Евгений, несчастная жертва борьбы двух начал русской жизни, это не личность, а всего лишь обыватель, гибнущий под копытом коня империи или в волнах революции.
Но еще более, чем правда и милость, подвиг просвещения и культуры составляет для Пушкина, как для людей XVIII века, главный смысл империи: он (Петр) «нравы укротил наукой», «он смело сеял просвещенье». Преклонение Пушкина перед культурой, ничем не отравленное – ни славянофильскими, ни народническими, ни толстовскими сомнениями, – почти непонятное в наши сумеречные дни, не менее военной славы приковывало его к XVIII веку. Он готов посвятить неосуществленной Истории Петра Великого свою жизнь. И хотя изучение архивов вскрывает для него темные стороны тиранства на любимом лице, он не допускает этим низким истинам омрачить ясность своего творимого Петра; подобно тому, как низость Екатерины, прекрасно ему известная, не пятнает образа «Великой Жены» в его искусстве. Низкие истины остаются на страницах записных книжек. В своей поэзии, включая и прозаическую поэзию, Пушкин чтит в венценосцах XVIII века – более в Петре, конечно, – творцов русской славы и русской культуры. Но тогда нет ничего несовместимого между империей и свободой. Мы понимаем, почему Пушкину так легко дался этот синтез, который был почти неосуществим после него. В исторических заметках 1822 года Пушкин выразился о своем императоре: «Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения».