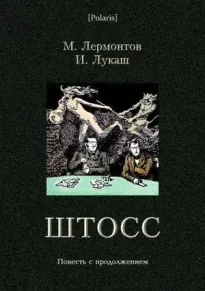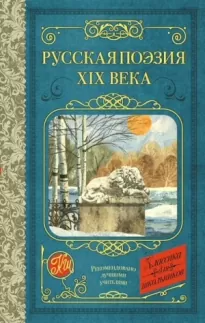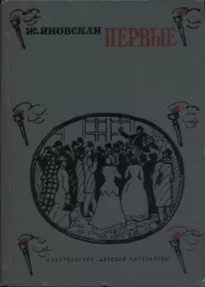Пушкин и компания. Новые беседы любителей русского слова

- Автор: Борис Парамонов
- Жанр: Публицистика / Литературоведение
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Пушкин и компания. Новые беседы любителей русского слова"
Чехов
И. Т.: В чем, Борис Михайлович, вы видите проблематичность Чехова, что можно о нем сказать, чего не говорили другие?
Б. П.: Первым сказал нечто неожиданное о Чехове Корней Чуковский. Он решительно опротестовал трактовку Чехова как певца сумерек и хмурых людей. Наоборот, Чуковский представил Чехова как энергичного, делового, активного человека, любившего всякую общественность, попросту общительного и скорее веселого. Эта его работа начинается, помню, словами: он был гостеприимен как магнат. Это было написано где-то в середине сороковых годов. Потом Чуковский в дневнике жаловался, что одиозный Ермилов украл у него эту трактовку в своей казенной книге о Чехове.
И. Т.: Как раз после войны на волне всяческого русско-советского шовинизма стали перетолковывать русских классиков, делая из них неких провидцев светлого социалистического будущего. Пример таких трактовок в монументальной пропаганде – московский памятник Гоголю работы Томского, поставленный на самом видном месте. А изумительный старый памятник работы Андреева задвинули.
Б. П.: По крайней мере не спрятали, его можно увидеть в маленьком садике на Новинском, что ли, бульваре. Я не знаток Москвы, но, каждый раз в ней бывая, почему-то набредаю на этот памятник и уважительно его всякий раз рассматриваю. Там настоящий Гоголь, меланхолик и мизантроп, спрятавший лицо в воротник шинели, только знаменитый его нос из шинели вылезает.
И. Т.: На Никитском бульваре, Борис Михайлович.
Б. П.: Ну вот, я же и говорю, что я не знаток Москвы. Сходная ситуация с памятником Маяковскому на Триумфальной площади. Эренбург писал: этот памятник очень не похож на человека, которого я знал.
И. Т.: Вы хотите сказать, что Чуковский, со своей стороны, неправомерно перетолковал Чехова?
Б. П.: Да нет, он во многом прав. Только чеховских хмурых людей и чеховских сумерек никак замолчать нельзя. Что было, то было. Так что вопрос надо поставить так: почему у этого жизнерадостного и активного человека, начавшего с юмористических рассказов и всяческого веселья, появились в творчестве такие ноты?
И. Т.: Кстати, о жизнерадостном человеке. У Владимира Гиляровского воспоминания о Чехове называются «Жизнерадостные люди».
Б. П.: Интересно, что и англичанин об этом пишет…
И. Т.: Дональд Рейфилд?
Б. П.: Не хочу говорить о нем. Это ж надо было умудриться: написать подробнейшую биографию Чехова, ничего не сказав о его творчестве. Ну и получился, естественно: средь детей ничтожных мира всех других ничтожней он.
Нет, я имею виду другого англичанина, Сомерсета Моэма, который писал о Чехове так:
Я всерьез взялся за жанр рассказа, когда лучшие писатели Англии и Америки подпали под влияние Чехова. Литературному миру недостает чувства пропорции – когда он чем-нибудь увлечется, он склонен считать это не модой, а непреложным законом, и вот сложилось мнение, что всякий одаренный человек, который хочет писать рассказы, должен писать так, как Чехов. Несколько писателей создали себе имя тем, что пересаживали русскую тоску, русский мистицизм, русскую никчемность, русское отчаяние, русскую беспомощность, русское безволие на почву Суррея или Мичигана, Бруклина или Кленема. <…> Чехов превосходно писал рассказы, но талант его не был универсален, и он благоразумно держался в пределах своих возможностей. Он не умел построить сжатую драматическую новеллу, из тех, что можно с успехом рассказать за обедом, как «Ожерелье» или «Наследство» (Мопассана). Человек он был, видимо, бодрый и энергичный, но творчество его отмечено унынием и грустью, и ему как писателю претил насыщенный действием сюжет и всякое излишество. Его юмор, зачастую такой горестный, – это реакция болезненно чувствительного человека на непрестанное, мучительное раздражение. Он видел жизнь в одном цвете. Персонажи его не отличаются резко выраженной индивидуальностью. Как люди они его, видимо, не очень интересовали. Может быть, именно поэтому он способен создать впечатление, будто между ними нет четких границ и все они сливаются друг с другом как некие мутные пятна; способен внушить вам чувство, что жизнь непонятна и бессмысленна. И этого-то как раз не уловили его подражатели.
Вот эти слова о Чехове как человеке активном и энергичном многого стоят. Думаю, Моэм читал некоторые письма Чехова, в которых он как раз таким живым и деятельным предстает. Ну, а из этих попавших под влияние Чехова англоязычных писателей называют первым делом Кэтрин Мэнсфилд, о которой Хемингуэй сказал, как раз сопоставляя ее с Чеховым: по сравнению с ним она была похожа на разбавленное пиво, тогда уж лучше пить просто воду. А я как-то раз напал на одно интервью Татьяны Толстой, которая, рассказывая о своей работе в американских колледжах, вспомнила, как она однажды задала студентам сравнить рассказ Чехова и сходный по теме Мэнсфилд и сказать, кто, по их мнению, лучше. Большинство студентов выбрало Мэнсфилд.
Кстати, о влиянии Чехова на англичан: я у Олдоса Хаксли обнаружил один довольно объемистый рассказ, написанный явно в параллель «Ионычу», – о неких квазихудожественных людях, вроде чеховских Туркиных. Не помню названия этого рассказа, но он был много объемистей «Ионыча», что не говорит в пользу Хаксли. Чехову хватало пол-листа, чтобы не только показать человека, но и всю его жизнь нарисовать.
И. Т.: Борис Михайлович, вернемся к теме о чеховской мутации, о превращении автора юмористических рассказов в певца хмурых людей и сумерек. Какие тут были действующие причины, на ваш взгляд? Об этом же все современники чеховские писали, ахали и охали: как же такой светлый, легкий, веселый талант так трансформировался. Причиной называлась гнусная русская жизнь, виновная в появлении хмурых и сумеречных.
Б. П.: Еще тяжелых людей. Есть у Чехова такой рассказ – «Тяжелые люди».
И. Т.: Да: отец с сыном ругается из-за того, что сын захотел уехать в город на учение.
Б. П.: Нельзя, конечно, эти сторонние детерминации списывать со счетов, русская жизнь при всей тогдашней, как нам кажется сейчас, благости, такой уж легкой не была никогда. Но Чехов действительно был человек легкий, веселый и энергичный, и жизнь свою он очень умело строил. И медицинский факультет окончил – самый трудный, между прочим, и практиковать стал, и природный свой юмор очень умело в дело пустил, студентом еще чуть ли не всю семью тянул. И особняки в Москве снимал (а не какие-то квартиры и углы), и на дачу каждой весной выезжал, и младших братьев выучил. У него все получалось. Вспомните, какое он имение сделал из очень средненького Мелихова. Мало того что дача была круглый год, так он ее еще и доходным сельским хозяйством сделал. А чтоб постоянные гости работать не мешали, построил на отдаленном участке домишко в три комнаты, там и «Чайку» написал. Жизнь кипела в чеховском имении, все у него спорилось, счастливый человек, хочется сказать. Да вот и несчастливый: в двадцать пять лет чахотка обнаружилась, кровохарканья начались. Ну и, понятное дело, веселая литература на этом кончилась, пошла серьезная, серьезней не бывает. И в двадцать восемь лет он пишет «Скучную историю» – об умирающем старике-профессоре. Вот уж удивил Чехов, так удивил.
Это главное, что с ним произошло. Что называется, экзистенциальный кризис. Какая уж там юмористика.
Интересно посмотреть, как современники Чехова отреагировали на эту очень заметную перемену. Но вот, скажем, влиятельнейший тогда критик, да и вообще властитель дум, вождь легального народничества Н. К. Михайловский, очень внимательно следивший за Чеховым. Вот как он писал в статье «Об отцах и детях и о г-не Чехове»:
Г-н Чехов пока единственный действительно талантливый беллетрист из того поколения, которое может сказать о себе, что для него «существует только действительность, в которой ему суждено жить» и «что идеалы отцов и дедов над ними бессильны». <…> Он действительно пописывает, а читатель его почитывает. Г-н Чехов сам не живет в своих произведениях, а так себе, гуляет мимо жизни и, гуляючи, ухватит то одно, то другое.
<…> При всей своей талантливости г-н Чехов не писатель, самостоятельно разбирающийся в своем материале и сортирующий его с точки зрения какой-нибудь общей идеи, а какой-то почти механический аппарат. Кругом него действительность, в которой ему суждено жить и которую он поэтому признал всю целиком с быками и самоубийцами, колокольчиками и бубенчиками. Что попадется на глаза, то он и изобразит с одинаковою холодною кровью.
<…> Все у него живет: облака тайком от луны шепчутся, колокольчики плачут, бубенчики смеются, тень вместе с человеком из вагона выходит. Но, странное дело, несмотря на готовность автора оживить всю природу, всё неживое и одухотворить всё неодушевленное, от книжки его жизнью всё-таки не веет. И это отнюдь не потому, что он взялся изобразить «Хмурых людей» <…>. Нет, не в хмурых людях тут дело, а, может быть, именно в том, что г-ну Чехову всё равно – что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца <…>.
Нет, не хмурых людей надо бы поставить в заглавие всего этого сборника, а вот разве «холодную кровь»: господин Чехов с холодною кровью пописывает, а читатель с холодной кровью почитывает.
Естественно, Михайловский схватился за «Скучную историю», в которой ее герой старый профессор сетует на то, что нет у него некоей общей идеи, этого Бога живого человека. И тут он выражает некоторую надежду: если Чехов и не исповедует никакой общей идеи, то, по крайней мере, он делается певцом ее вроде как поиска.
Ну и конечно, много смешного у этого образцового левого либерала в суждениях о литературе. Например, он не верит Чехову, когда его герой говорит, что он дружил с такими людьми, как Пирогов, Кавелин, Некрасов: человек, друживший с такими людьми, пишет Михайловский, нашел бы что сказать своей воспитаннице, кроме знаменитого: «Пойдем, Катя, ужинать».
И. Т.: Ну да, бороться с самодержавием. Вот, Борис Михайлович, кстати, тема: об отношении Чехова к либеральной интеллигенции. Помнится, вы ее не раз затрагивали в ваших писаниях о Чехове.
Б. П.: Конечно, мы будем говорить об этом. Но сначала я хочу привести суждение о Чехове, исходящее от человека не совсем обычной интеллигентской складки, а глядевшего глубже. Это Лев Шестов, написавший по смерти Чехова большую статью о нем под провокативным названием «Творчество из ничего». Шестов, один из творцов экзистенциальной философии, и Чехова старается понять экзистенциально, из особенностей его личного опыта. Надо полагать, он знал, что Чехов умер от туберкулеза в возрасте сорока четырех лет, и более того, он, Шестов, ставит эту тему в более широкий контекст: человек перед лицом – вернее, не лицом, – глухого, безрассудного, иррационального бытия. Человек и абсурд, как потом сформулирует тему ученик Шестова Альбер Камю.
Процитируем кое-что из этой статьи Шестова, называвшейся, напоминаю, «Творчество из ничего»:
У Чехова было свое дело, хотя некоторые критики и говорили о том, что он был служителем чистого искусства и даже сравнивали его с беззаботно порхающей птичкой. Чтобы в двух словах определить его тенденцию, я скажу: Чехов был певцом безнадежности. Упорно, уныло, однообразно в течение всей своей почти 25-летней литературной деятельности Чехов только одно и делал: теми или иными способами убивал человеческие надежды. <…> то, что делал Чехов, на обыкновенном языке называется преступлением и подлежит суровейшей каре.