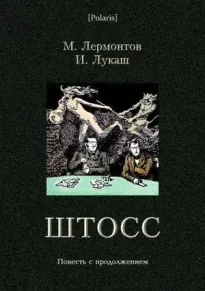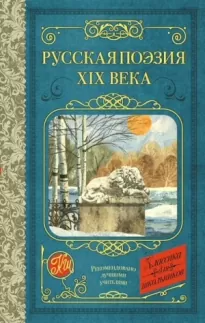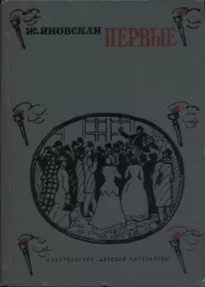Пушкин и компания. Новые беседы любителей русского слова

- Автор: Борис Парамонов
- Жанр: Публицистика / Литературоведение
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Пушкин и компания. Новые беседы любителей русского слова"
Лесков
И. Т.: Не раз на моей памяти вы, Борис Михайлович, цитировали этого дивного прозаика.
Б. П.: Со смешанными чувствами приступаю, Иван Никитич, к сегодняшней теме, к Лескову. Мне самому неясно, как я к нему отношусь. Прямо старинный романс получается: «Люблю ли тебя, я не знаю…»
И. Т.: «Но кажется мне, что люблю»?
Б. П.: В том-то и дело, что не кажется. С другой стороны, не могу сказать, что не люблю. Ну как можно не любить, скажем, «Левшу»? Или «Очарованного странника»? Это что-то существующее уже как бы помимо литературы: какое-то общее воспоминание, национальная, что ли, память. Какой-то объективно существующий факт, не зависящий от нашей оценки. Пейзаж, воздух. Генотип, если хотите.
И. Т.: Язык.
Б. П.: Вот именно, язык. Причем даже не конкретно лесковский, а тот, на котором все говорим.
И. Т.: Ну, это уж вряд ли. Язык «Левши», вообще язык Лескова большей частью как раз выдуманный, сконструированный, все эти досадные укушетки и непромокабли. Лев Толстой даже выговаривал автору: слишком.
Б. П.: В данном случае я не эстетику имею в виду, не стиль, а нечто третье – или пятое, или десятое. Или, наоборот, одно-единственное, единое на потребу, что называется. Это какая-то непреложность самого лесковского существования. От него, так сказать, не отделаться. Любишь или не любишь – не важно: он непререкаемо есть, и с этим нельзя не считаться. Я бы даже так сказал: насильственное его присутствие. Точно как поэт сказал: существует – и ни в зуб ногой.
И. Т.: Маяковский это сказал о поэзии как таковой. В таком случае Лескова необходимо принимать как эстетический факт. И Лескова можно не любить, греха в этом нет.
Б. П.: Но я как раз этого сказать не могу: что я не люблю Лескова или что я люблю его частично, от и до чего-нибудь. Он какие-то более сильные чувства вызывает, сверхэстетического уже порядка. Иногда даже хочется сказать: хорошо, что он есть, но лучше бы его не было.
И. Т.: Вы говорите прямо как цензор.
Б. П.: Нет, тут не о литературе речь идет. А о самой России, если угодно.
Ну хорошо, давайте зайдем с другого бока, вспомним Достоевского, сказавшего: «Широк русский человек, я бы сузил». И это сказал писатель, который на этой шири, и отнюдь не русской, а общечеловеческой, все свое творчество построил. То есть и собственная ширь иногда невмоготу. В том числе русская. Вступает в дело категория количества. Лескова слишком много. И не в смысле объема написанного, а по-другому. Он избыточно многоцветен, пестрит, от него устаешь, глаза ломит. Он чрезмерен – вот слово.
И. Т.: А о нем так и писали еще при жизни его. Да и потом: статья Эйхенбаума начала двадцатых годов так и называлась – «„Чрезмерный“ писатель». Причем слово «чрезмерный» было взято в кавычки, то есть подчеркивалась цитатность этого определения, его устойчивость – как некоего общего места.
Б. П.: Первым о чрезмерности Лескова сказал вождь либерального народничества, тогдашний властитель дум Михайловский. Соответствующий его текст относится к девяностым годам, то есть уже к позднему Лескову, когда была если не забыта, то не педалировалась история с его антинигилистическими романами «Некуда» и «На ножах», вызвавшими общее негодование российских даже и не либералов, а просто порядочных людей. Это известный сюжет: в начале шестидесятых годов, с начала великих реформ Александра II, когда наступила всяческая гласность (именно тогда это заветное русское слово прозвучало!), очень уж разговорились нетерпеливые молодые люди, тогдашние хиппи или панки, если угодно. И началось всеобщее отрицание, нигилизм, как вовремя подсказал словцо Тургенев, за что и на него эта активная молодежь окрысилась. Это явление нашло заметное отражение в тогдашней литературе – появилась серия так называемых антинигилистических романов, причем разного значения и качества. «Отцы и дети» Тургенева по этой рубрике зачислили, Писемский написал «Взбаламученное море» – не такого достоинства вещь, как тургеневский роман, но Писемский все же серьезный писатель. Были и однодневки нашумевшие, вроде «Марева» Клюшникова. Вот сюда же, к этого рода литературе отнесли Лескова, два его романа – «Некуда» начала шестидесятых годов и позднее, в 1870 году написанный, «На ножах». И этими сочинениями Лесков сильно себе повредил, Писарев предложил объявить ему бойкот. Между прочим, он напечатал их под псевдонимом Стебницкий, но все знали, что это Лесков, совсем недавно вошедший в петербургскую литературу. Бойкот не бойкот, но некоторые затруднения в отношении своих публикаций Лесков стал испытывать. Достаточно вспомнить, как он не мог пристроить тогда же написанное лучшее свое сочинение «Соборяне» – три раза начинал печатать в трех журналах под тремя названиями. Отношение к Лескову в начале его писательской карьеры сложилось, как у интеллигенции в хрущевские времена к сталинисту Всеволоду Кочетову, написавшему тогдашнее «Некуда» под названием «Чего же ты хочешь?».
И. Т.: А еще был Иван Швецов – роман «Тля», где главного злодея звали Осип Давидович Иванов-Петренко.
Б. П.: Ну да, а главного космополита звали Барселонский – Эренбурга он так закамуфлировал. Но «Тля» это уже был чистый юмор, негодования не было, люди от души смеялись. Но вот с Кочетовым параллель вполне уместна, именно таким ретроградом стали считать Лескова по написании двух этих романов. Но почти так же и на Базарова отреагировали, тоже посчитали его клеветой на передовую молодежь. И если с Базаровым российские радикалы опростоволосились, не разглядев достоинств романа и его героя, то в случае Лескова как раз не ошиблись. Романы действительно плохие. И однозначно можно сказать, почему плохие.
И. Т.: Почему же, по-вашему?
Б. П.: Не потому что Лесков был реакционер, а потому что он не умел писать романов. Это очень важный пункт, на нем необходимо остановиться. Отсюда можно всего Лескова развернуть и размотать.
И возвращаясь к Михайловскому: он в той статье девяностых уже годов пишет отнюдь не об идеологии Лескова, а о его художестве, как он его понимает. И понимает-то правильно! Что он находит у него чрезмерным? Отнюдь не только его язык и всяческие с ним игры, но и приемы сюжетосложения. Он пишет, что Лесков фабульно несдержан, у него в одной вещи всегда или почти всегда преизбыток материала. Это не единое построение, а как бы нитка бус, на одной нитке масса бусинок. И действительно, вспомним хотя бы знаменитого «Очарованного странника», сколько там историй рассказано, и все разные. Это то, что потом русские авангардисты назвали «монтажом аттракционов». Аттракционы «Странника» многочисленны, вот на память перечисляю: в самом начале – как лошадей погонять надо при лихой езде, или опять же о лошадях – как цыгане на конских ярмарках жульничают, выдавая плохих лошадей за здоровых, или великолепный аттракцион с пребыванием Флягина в плену у каких-то туземцев, как они его «подщетинили» и как он ухитрился от этой щетины избавиться, да еще и туземцев напугать вдобавок. Или гулянка Флягина в кабаке и как он ремонтерские деньги пропил, раскидал «белых лебедей» – сотенные бумажки.
«Монтаж аттракционов» – это Эйзенштейна термин, а Шкловский еще другое сказал: что так называемый герой литературных произведений величина на самом деле не существующая, это нитка, на которой повешены, нанизаны эти самые аттракционы, создающая иллюзию единства художественного произведения. И нитка эта серая, добавляет Шкловский. Действительно, ну какой Онегин социальный тип, лишний он человек или не лишний. Он не лишний композиционно, формально. То есть дальше сказать – не существует художественного реализма, книги не жизнь отражают, не из жизни, так сказать, берутся, а имеют собственное автономное построение. И вот почему, между прочим, формалисты так хвалили статью Писарева о Пушкине: он по-своему, варварски доказал, что стихи Пушкина отношения к жизни не имеют, что «Евгений Онегин» отнюдь не есть энциклопедия русской жизни.
И. Т.: Вы, Борис Михайлович, вспомнили Писарева: он и Лескова разоблачал и – в отличие от Пушкина – разоблачил, испортил ему репутацию. Задал риторический вопрос: найдется ли теперь журнал, который рискнет напечатать следующие сочинения господина Стебницкого? Но в этот же ряд левые критики ставили «Отцов и детей» (шедевр русской прозы), а позднее и «Бесов». Так может быть, и Лесков был не так плох, как его представили? Мы же сейчас не следуем стандартам и вкусам шестидесятнического позапрошлого века нигилизма. Мы-то знаем, во что этот нигилизм в конце концов вылился.
Б. П.: Я сам так думал и в свое время взялся читать «Некуда» и «На ножах» не без намерения Лескова реабилитировать – именно вот эти его вещи. Увы, не получилось: это, как я уже сказал, действительно крайне неудачные сочинения. Я силился их прочесть – и, каюсь, не смог, это совершенно, как сейчас говорят, нечитабельно.
И. Т.: А ведь считается, что в романе «На ножах» есть одна бесспорная удача – образ нигилистки Ванскок. Это она так свое имя произносила – Анна Скокова, так всегда торопилась, борясь за общее дело. Об этом даже Горький писал.
Б. П.: Горький-то главным образом и писал – он вообще не просто любил Лескова, но исполнил главную работу его реабилитации. Но вот давайте приведем цитату из лесковского романа «На ножах», как раз об этой Ванскок.
Во главе этих беспокойных староверов более всех надоедала Горданову приземистая молоденькая девушка, Анна Александровна Скокова, особа ограниченная, тупая, рьяная и до того скорая, что в устах ее изо всего ее имени, отчества и фамилии, когда она их произносила, по скорости, выходило только Ван-скок, отчего ее, в видах сокращения переписки, никогда ее собственным именем и не звали, а величали ее в глаза Ванскоком <…>.
Староверка Ванскок держалась древнего нигилистического благочестия; хотела, чтобы общество было прежде уничтожено, а потом обобрано, между тем как Горданов проповедовал план совершенно противоположный, то есть чтобы прежде всего обобрать общество, а потом его уничтожить.
– В чем же преимущество его учения? – добивалась Ванскок.
– В том, что его игра беспроигрышна, в том, что при его системе можно выигрывать при всяком расположении карт, – внушали Ванскок люди, перемигнувшиеся с Гордановым и поддерживавшие его с благодарностью за то, что он указал им удобный лаз в сторону от опостылевших им бредней.
– В таком случае это наше новое учение будет сознательная подлость, а я не хочу иметь ничего общего с подлецами, – сообразила и ответила прямая Ванскок.
Она в эти минуты представляла собою того приснопоминаемого мольеровского мещанина, который не знал, что он всю жизнь говорил прозой.
Чтобы покончить с этой особой и с другими немногими щекотливыми лицами, стоявшими за старую веру, им объявили, что новая теория есть «дарвинизм». Этим фортелем щекотливость была успокоена и старой вере нанесен окончательный удар. Ванскок смирилась и примкнула к хитрым нововерам, но она примкнула к ним только внешнею стороной, в глубине же души она чтила и любила людей старого порядка, гражданских мучеников и страдальцев, для которых она готова была срезать мясо с костей своих, если бы только это мясо им на что-нибудь пригодилось. Таких страдальцев в эту пору было очень много, все они были не устроены и все они тяжко нуждались во всякой помощи, – они первые были признаны за гиль, и о них никто не заботился. По новым гордановским правилам, не следовало делать никаких непроизводительных затрат, и расходы на людей, когда-нибудь компрометированных, были объявлены расходами непроизводительными. Общительность интересов рушилась, всякому предоставлялось вредить обществу по-своему.