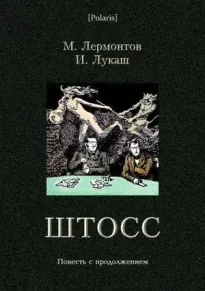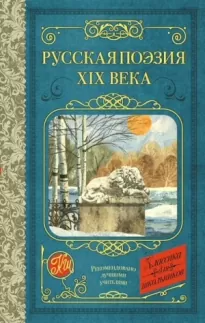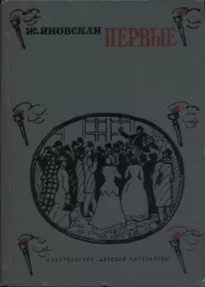Пушкин и компания. Новые беседы любителей русского слова

- Автор: Борис Парамонов
- Жанр: Публицистика / Литературоведение
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Пушкин и компания. Новые беседы любителей русского слова"
Салтыков-Щедрин
И. Т.: Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Есть такие русские отчества, которые запоминаются даже людьми, книг не читающими. Был, например, купец с отчеством Елпидифорович – жаль, в школе не проходили, а то знаменит был бы. Так и наш сегодняшний герой.
Б. П.: Думаю, я, Иван Никитич, не сильно ошибусь, если скажу, что Салтыков-Щедрин из всех русских классиков, из всей блестящей плеяды XIX века наименее читаемый автор. Что называется, «в школе проходят» – и не дальше и не больше. А собственно, что в школе дают? Сказку «Как один мужик двух генералов прокормил». И это действительно запоминается, причем не сам текст, а вот этот заголовок, ставший чем-то вроде пословицы. Ну, или еще один заголовок, одно название – «История города Глупова».
И. Т.: Название, собственно, другое: «История одного города».
Б. П.: Все все-таки знают, что город Глупов. Да вот и всё, пожалуй. Ну, разве что в лучшем случае прочитали список градоначальников, всех этих Брудастых, Бородавкиных и Грустиловых.
И. Т.: Угрюм-Бурчеева еще помнят.
Б. П.: Пожалуй, и Залихват-Перехватского, который въехал в город на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки. Вот эта фраза как-то сидит в памяти помимо всего прочего. Но вообще говоря, это немало, когда слова помнятся помимо и вне автора, этакая анонимность многого стоит. Что называется, слова народные. Или из тех же сказок помнят кто поначитанней: знаешь ли ты, щука, что такое добродетель?
И. Т.: Это «Карась-идеалист».
Б. П.: Ну, да, и щука так изумилась, так изумленно разинула пасть, что карась сам в нее въехал.
Но дело не в этом, не в этих памятных словах и словечках. Помнят главным образом другое: Салтыков-Щедрин – сатирик. И в этом качестве и долженствует быть в памяти. И главное, чтоб объект сатиры не забывали: царское, мол, правительство. То есть сатира щедринская ограничивается вполне определенным адресом, к конкретному историческому времени приписывается.
И. Т.: А ведь Щедрина еще при жизни не сразу посчитали сатириком. Писарев статью о нем назвал «Цветы невинного юмора». Вот из этой статьи несколько фраз:
Вы смеетесь, читатель, и я тоже смеюсь, потому что нельзя не смеяться. Уж очень большой артист г. Щедрин в своем деле! Уж так он умеет слова подбирать; ведь сцена-то сама по себе вовсе не смешная, а глупая, безобразная и отвратительная; а между тем впечатление остается у вас самое легкое и приятное, потому что вы видите перед собою только смешные слова, а не грязные поступки; вы думаете только о затеях г. Щедрина и совершенно забываете глуповские нравы. Я знаю, что эстетические критики называют это просветляющим и примиряющим действием искусства, но я в этом просветлении и примирении не вижу ничего, кроме одуряющего. Рассказ должен производить на нас то же впечатление, какое производит живое явление; если же жизнь тяжела и безобразна, а рассказ заставляет нас смеяться приятнейшим и добродушным смехом, то это значит, что литература превращается в щекотание пяток и перестает быть серьезным общественным делом. Чтобы предлагать людям такое чтение, не стоит отрывать их от карточных столов.
Б. П.: Помнится, та статья кончалась советом господину Щедрину бросить невинный юмор и заняться популяризацией естественных наук. А между тем Писарев и правду сказал, только сам ее не заметил: что словесное искусство производит умиротворяющее действие. То есть действует несмотря и помимо объектов своего изображения. То есть главное в литературе, вспоминая апофегму Шкловского, не материал, а стиль. И вот мой пойнт: Щедрина можно – и я бы сказал нужно – читать, не принимая во внимание его материал, адрес его сатиры. Он может доставлять эстетическое наслаждение. Щедрин – мастер слова, то есть писатель прежде всего.
И. Т.: При этом сам Щедрин склонялся к этому распространенному в России мнению, что дело литературы – бичевать общественные пороки.
Б. П.: Да, у него даже есть фраза: литература и пропаганда – одно и то же. Но художник в нем потеснял, вытеснял идеолога-радикала. И вот тут я хочу привести некую цитату. Это Михаил Леонович Гаспаров писал, имея в виду непонятность Щедрина для иностранного читателя:
Тайна русского народа была бы понятнее иностранцам, если бы они могли читать не только Достоевского, а и Щедрина. Но Достоевский переводим (как детектив и как философский трактат), а Щедрин непереводим, и не только и не столько из-за реалий и аллюзий, а потому что стилистическое богатство его ехидства абсолютно непередаваемо. Передать исхищренную тонкость щедринских слов мог бы разве Набоков, но для Набокова Щедрин не существовал. (А ведь было у них общее свойство: способность уничтожить одним словом.) Их сравнивал еще Бицилли в «Современных записках».
Бицилли, помнится, нашел набоковское у Щедрина в оловянных солдатиках, наливающихся кровью. Вообще-то сравнивать со Щедриным можно только одну вещь Набокова – «Приглашение на казнь». Но это не сатира, а сюрреализм. И это действительно можно сказать о Щедрине: он не столько сатирик, сколько сюрреалист. Это тем более верно, что сюрреализм изображает не ту или иную конкретноисторическую действительность, сколько абсурдность человеческого существования.
И. Т.: Вот потому-то, читая о глуповских градоначальниках, нельзя не видеть в них современность.
Б. П.: Да, совершенно верно. И это не Бородавкин похож на Хрущева, а страна пребывает в сюре. Хотя, конечно, доставляет немалое удовольствие находить такие параллели: Бородавкин во всеобщее употребление вводил горчицу, а Хрущев кукурузу.
И. Т.: И прообразом обоих – Екатерина Великая, насаждавшая картофель.
Б. П.: Так толковая немка, по крайней мере, преуспела в этом деле, и посейчас русский народ ест суп картонный, как солженицынская Матрена.
Ну, и самое важное пора сказать. Если Щедрин все-таки сатира, то объект его сатиры – не глуповские градоначальники, а сами глуповцы. Русский народ, сказать яснее. Та субстанция, с которой не в силах справиться никакая, даже самая энергичная власть.
Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия.
– Что хошь с нами делай! – говорили одни, – хошь – на куски режь; хошь – с кашей ешь, а мы не согласны!
– С нас, брат, не что возьмешь! – говорили другие, – мы не то что прочие, которые телом обросли! нас, брат, и уколупнуть негде!
И упорно стояли при этом на коленах.
Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает. Точно так же было и с глуповцами: жевали они довольно, а глотать не глотали.
– Сломлю я эту энергию! – говорил Бородавкин и медленно, без торопливости, обдумывал план свой.
А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли.
Этот бунт на коленях, пожалуй, самый выразительный из русских образов Щедрина: на века сказано. Вроде разоблачения культа личности и его последствий после смерти самой этой личности. Вообще, сам Хрущев так и просится в галерею глуповских градоначальников. Но, повторяю, градоначальники – не главный объект сатиры Щедрина, этот главный объект – сами глуповцы. То есть русский народ. И самое содержательное, самое выразительное, самое горькое, что написал Щедрин о русских, я обнаружил отнюдь не в «Истории одного города». Это текст из его «Писем о провинции», письмо двенадцатое. Глубоко философический текст. Щедрин описывает провинциальную, то есть все ту же русскую жизнь, в тех же тонах, теми же почти словами, как в философии экзистенциализма (а именно у Сартра) описывается так называемое бытие-в-себе. Вообще же, бытие в себе описать нельзя, его можно только вообразить, ибо любое описание уже выводит бытие из себя, из его голой имманентности. Описание – уже дело человека, владеющего аппаратом суждения, некоей категориальной системой, которая и делает возможным такое описание. Бытие-в-себе – это бытие до человека, то есть сугубо и трегубо бессмысленное: смысл бытию придает только его систематизация категориальным аппаратом разума.
Но вот давайте отложим на время Щедрина и начнем все-таки с Сартра: что такое бытие-в-себе:
…бытие несотворимо. Но отсюда нельзя заключить, что бытие себя творит. Это предполагало бы, что оно предшествует себе. Бытие не может быть causa sui [причиной себя] наподобие сознания. Бытие есть само по себе. Это означает, что оно – не пассивность и не активность. И то и иное – понятия человеческие и обозначают способы и орудия человеческого поведения. <…> Густота в себе бытия находится по ту сторону активного и пассивного. Бытие также – по ту сторону отрицания и утверждения.
<…> бытие не прозрачно для самого себя как раз потому, что оно наполнено собой. <…> Бытие есть то, что оно есть. <…> У бытия-в-себе вовсе нет внутри, которое противопоставлялось бы некоторому вне и которое было бы аналогично суждению, сознанию, закону. У в-себе нет сокровенного: оно сплошное. <…> бытие изолировано в своем бытии <…> оно не поддерживает никаких отношений с тем, что не оно. Переходы, события, все то, что позволяет сказать, что бытие еще не есть, – во всем этом ему в принципе отказано. Так как бытие есть бытие становления, оно находится по ту сторону становления. Оно есть то, что оно есть; <…> оно не скрывает никакого отрицания. Оно – полная положительность. Оно, стало быть, не знает изменчивости. Оно никогда не полагает себя в качестве иного <…>. Оно не может поддерживать никакого отношения с иным. Оно само безгранично и исчерпывается бытием. С этой точки зрения оно в принципе ускользает от времени. Оно есть, и, когда оно обваливается, нельзя даже сказать, что его больше нет, или, по крайней мере, сознание может его сознавать как уже не сущее, потому что оно во времени. Но само бытие не существует как недостаток там, где оно было: полнота позитивности бытия вновь образуется на месте обвала.
Еще раз: это бытие до человека, и оно может быть сколь угодно первично, то есть предшествовать человеку, но это не решает никакого выдуманного в советско-марксистской догматике основного вопроса философии. Осмысленное бытие, с которым начинает оперировать философия, появляется только с человеком, с сознанием человека. Как говорит тот же Сартр: сознание – это обвал, в котором бытие становится миром. (Вообще-то он говорит «ничто», но в философии Сартра сознание и есть ничто – как диалектическая противопоставленность сплошности и нерасчленяемости бытия-в-себе.)
И вот к чему я вспоминал эту премудрость? А к тому, что изощренное философическое описание неких бытийных реалий у новейшего философа больше всего напоминает ту картину русской жизни, которую дает Щедрин, – в сущности везде, но почти текстуально совпадающую с определениями Сартра в «Письмах о провинции». Здесь Щедрин вспоминает свои впечатления ссыльного, из культурной столицы попавшего в глухую провинцию; эзопов язык тут в том, что ссыльный называется «акклиматизируемым».